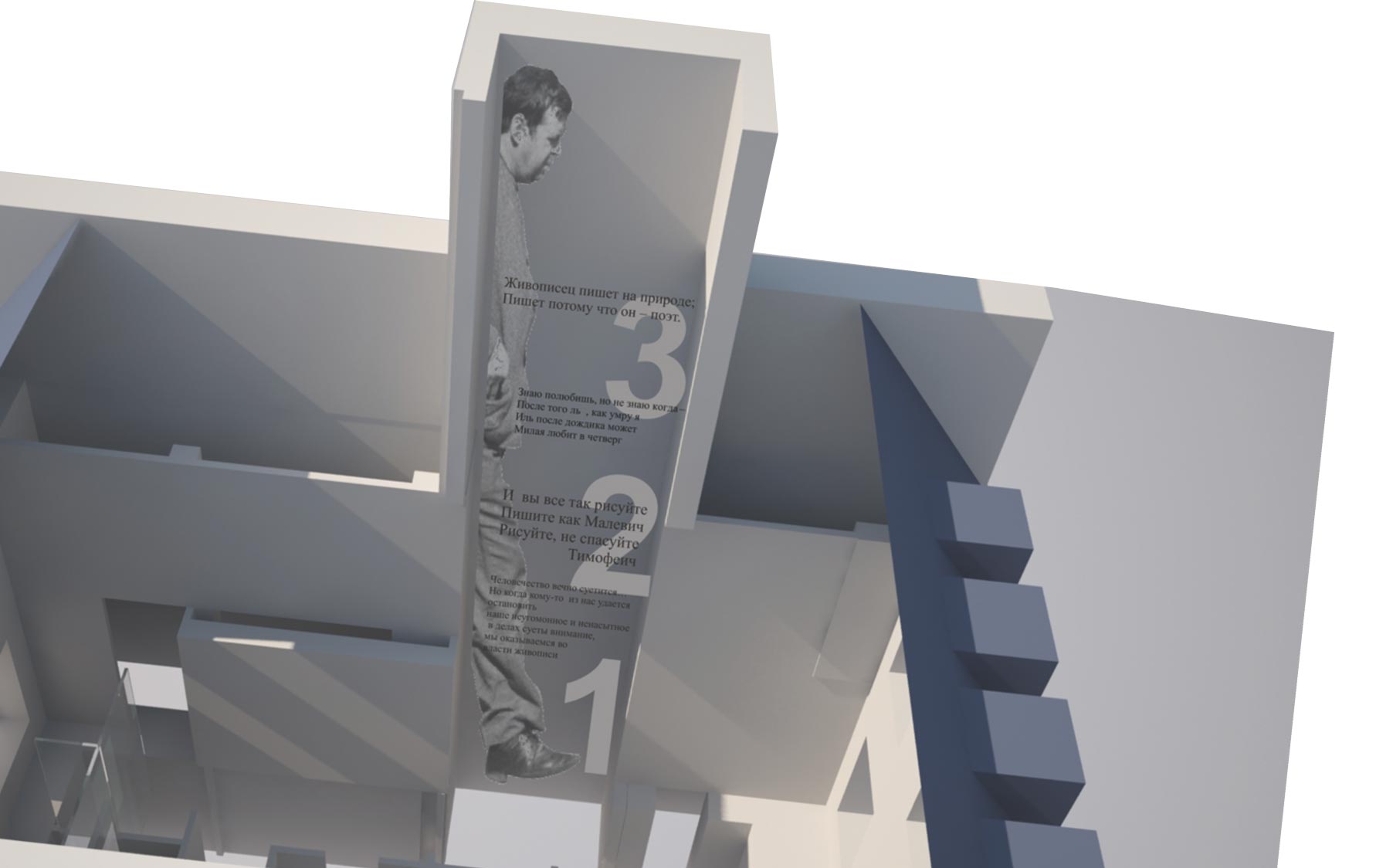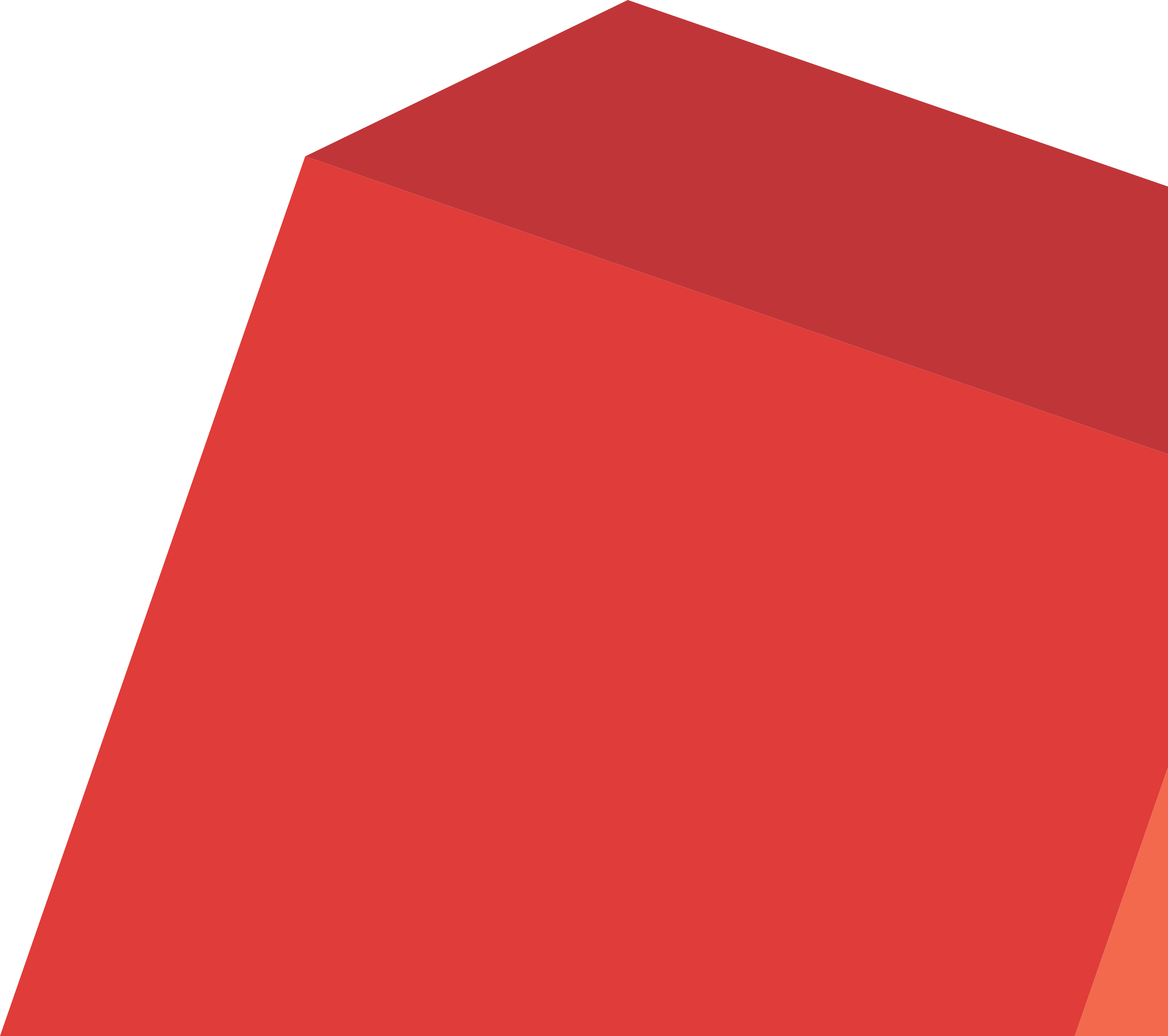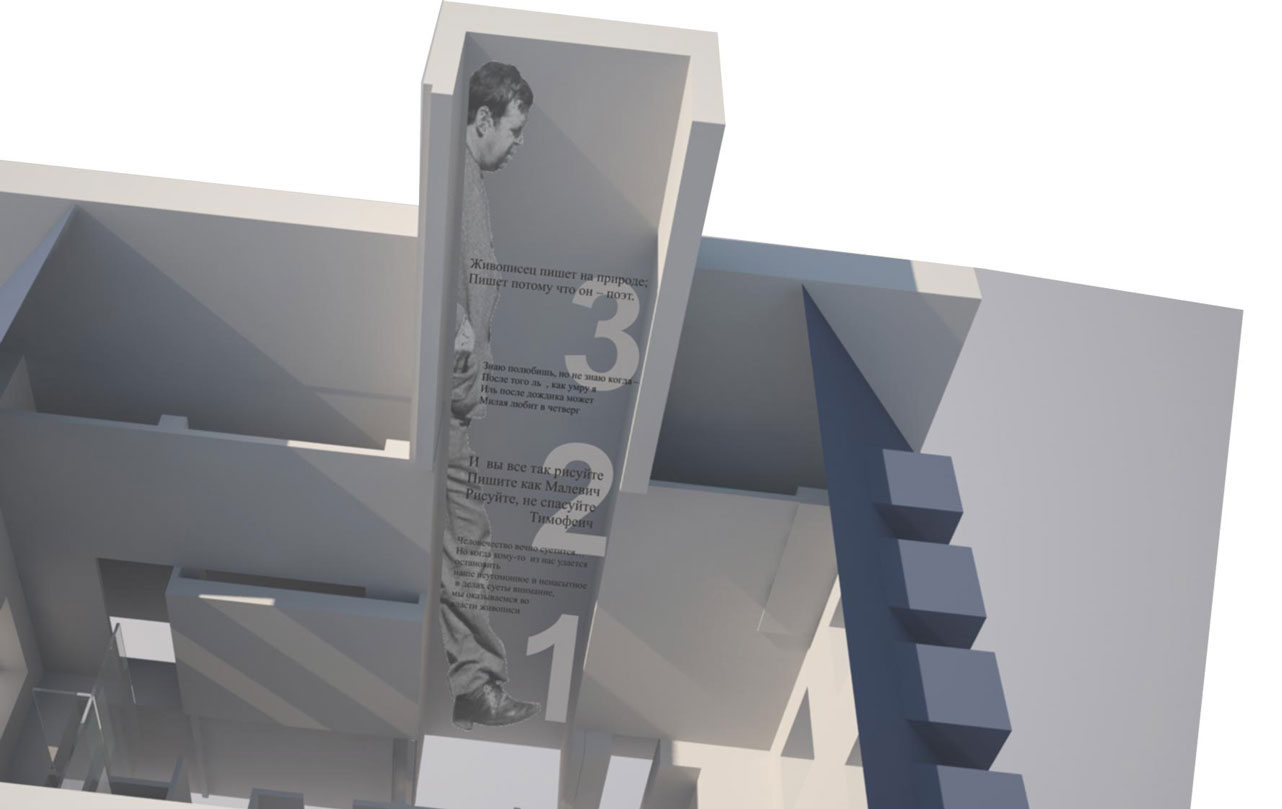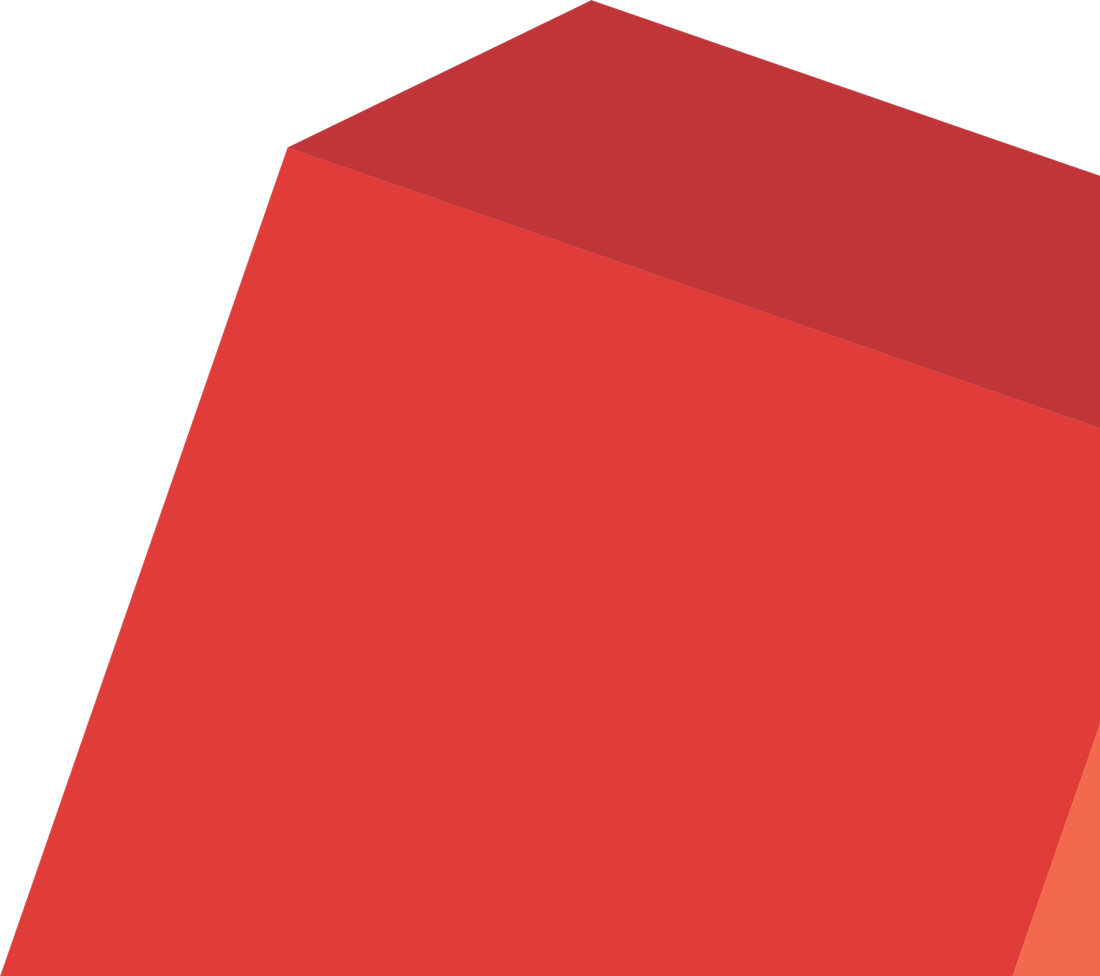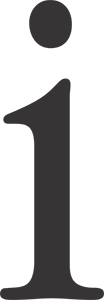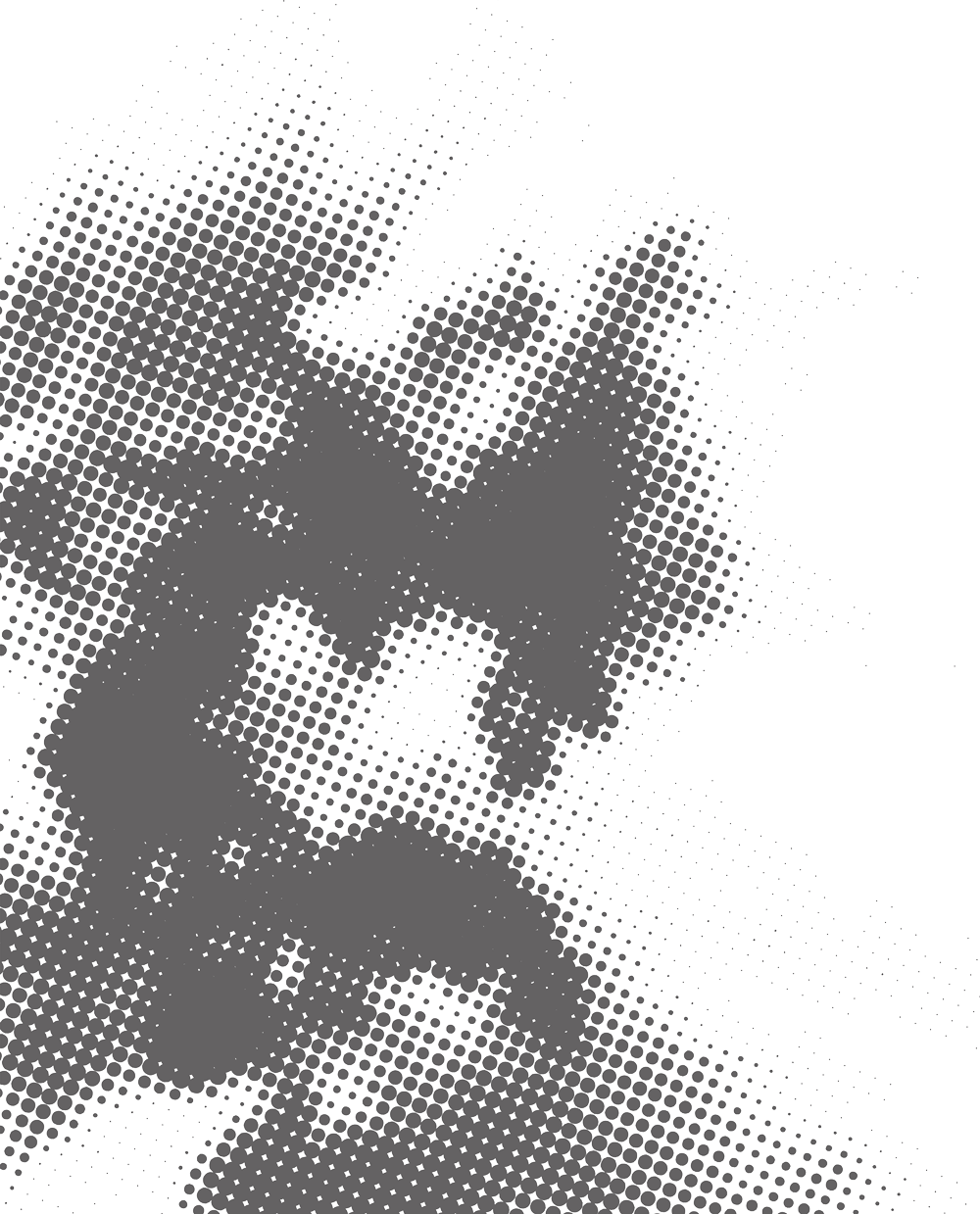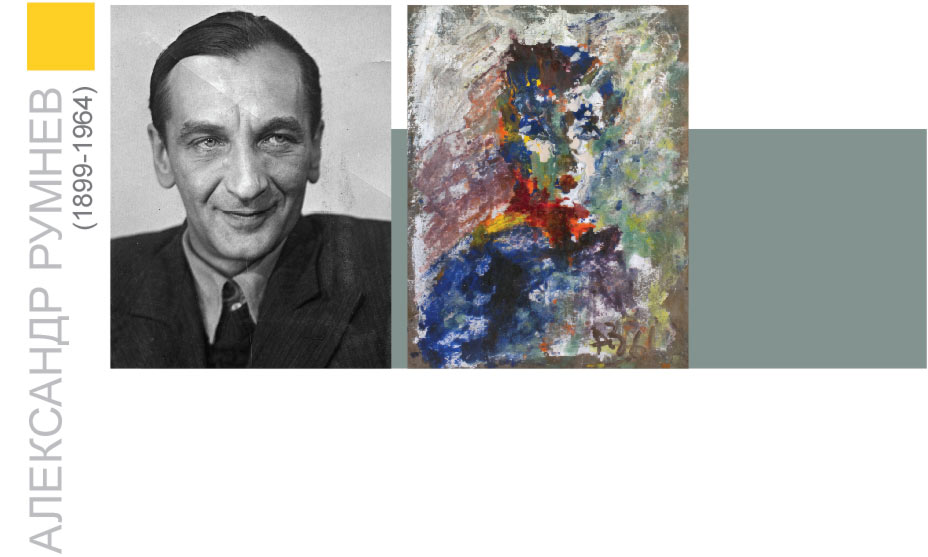
|
|
АЛЕКСАНДР РУМНЕВ (1899-1964)
актер, балетмейстер, педагог. В 1920–1933 годах работалв труппе Московского Камерного театра Александра Таирова. В 1940 году А. Румнев был приглашен преподавать движение и танец в актёрскую школу «Мосфильма». С 1944 года – педагог ВГИКа. Автор нескольких работ об искусстве пантомимы, среди которых «О пантомиме» (М., 1964) и «Пантомима и её возможности» (М., 1966; издана посмертно). С первых моментов знакомства и до своей кончины восхищался и поддерживал А. Зверева, открыв его талант многим коллекционерам и меценатам. далее |
|
Актер, балетмейстер, педагог. В 1920–1933 годах работал в труппе Московского Камерного театра Александра Таирова. В 1940 году А. Румнев был приглашен преподавать движение и танец в актёрскую школу «Мосфильма». С 1944 года – педагог ВГИКа. Автор нескольких работ об искусстве пантомимы, среди которых «О пантомиме» (М., 1964) и «Пантомима и её возможности» (М., 1966; издана посмертно). С первых моментов знакомства и до своей кончины восхищался и поддерживал А. Зверева, открыв его талант многим коллекционерам и меценатам.
"Всякое яркое, самобытное явление в искусстве после первого шока, испытанного от соприкосновения с ним, вызывает потребность в отчёте: что именно взволновало нас и почему? Живопись Анатолия Зверева, молодого художника, почти неизвестного у себя на родине, но давно привлекающего внимание западных любителей и коллекционеров, принадлежит к тем неожиданным и неповторимым явлениям, которые поражают не только законченным мастерством, но прежде всего – своеобразием того мира, в который нас допустил художник. Как всякая яркая индивидуальность, Зверев с трудом поддаётся регистрации в каком‑либо из известных нам живописных департаментов. Ограничимся констатацией, что его живопись предметна, фигуративна, реалистична в самом мудром значении этого слова. И если Зверева можно назвать экспрессионистом, то лишь в том смысле, в каком мог бы быть назван экспрессионистом, например, Ван Гог, поскольку в первую очередь его экспрессионизм выражает, раскрывает, разоблачает его самого. Отсюда стремительность и нервность его ритмов, отражающих неустойчивую психику человека, сформировавшегося в наш тревожный век; и отсюда же настойчивое стремление найти красоту и гармонию в том пугающем мире, в котором ещё есть и добрые люди, и ласковые звери, и деревья, дающие тень, и цветы, распространяющие благоухание. В поединке тревожного и ласкающего, уродливого и прекрасного – динамизм зверевского искусства. И, соприкасаясь с ним, мы являемся свидетелями этого трагического поединка, происходящего в душе художника. И одновременно мы становимся его союзниками, взволнованными его открытием, что мир добрее и прекраснее, чем он нам казался до встречи с искусством Зверева. Не потому, конечно, что действительность приукрашена художником и что кривой нос своей модели он сделал прямым. Напротив, он нередко усиливает и подчёркивает уродливое. Но и в самом уродливом, тревожном, пугающем он умеет увидеть прекрасное, трансформируя факт действительности в факт искусства. Сила воздействия живописи Зверева, может быть, станет понятнее, если всмотреться в процесс его работы. Как многие большие художники, Зверев инфантилен. Он не утратил детской непосредственности, свежести восприятия, доверчивости. Его душе, его глазу свойственна быстрота реакции. Это требует от руки художника её нервов, её мышц – быстрой и точной фиксации впечатлений. И рука Зверева отвечает этим требованиям лихорадочной сменой ритмов, когда трагические зигзаги чередуются с изысканной певучестью линий, когда яростная энергия мазков, пятен и брызг сменяется нежнейшим, ласкающим прикосновением кисти к холсту или бумаге. И всё это в таком полном соответствии с движениями души, что через несколько минут работы плоскость картины превращается в поверхность, почти документально фиксирующую душевное состояние художника, вызванное впечатлением извне. Лист или холст уподобляется в этом случае кардиограмме, отражающей процесс психического эксгибиционизма. При этом самое тривиальное впечатление, благодаря неожиданному углу зрения, смещению пропорций, деформации, своеобразию цветовых соотношений и, главное, благодаря учащённому биению сердца – становится волнующим и праздничным. Порожняя посуда, отхожие места, приблудные кошки, туберкулёзные дети, алкоголики и проститутки – весь этот пугающий мир столичной окраины приобретает не меньшую красоту и притягательность, чем цветы и деревья, чем лебеди и газели, которыми Зверев любовался в зоопарке. Факт действительности трансформирован в факт искусства с такой энергией, с такой убедительностью и мастерством, которое не может не волновать, которое заражает и покоряет. Может быть, ещё не настало время говорить о различных манерах или «периодах» в творчестве Зверева. Однако они существуют, и они известны его собирателям. Таких периодов много, так как живописная манера Зверева меняется часто и резко. Каждая из них могла бы обеспечить признание и безбедную жизнь любому менее одарённому художнику. Но Зверев расточителен. Он находит и бросает, и вновь находит, и вновь меняет приёмы, манеру без сожаления, забывая прежде найденное и не задумываясь над тем, что его богатство когда‑либо может быть исчерпано… Потому, что оно неисчерпаемо. И ещё потому, что, несмотря на различие приёмов и средств выражения, он всегда остается самим собой: его руку можно узнать всегда, так как во всех периодах она отражает чистоту его души, её поэтическую природу, неповторимую и единственную в своём роде." |

|
|
ГЕОРГИЙ КОСТАКИ (1913- 1990)
выдающийся коллекционер, меценат, крупнейший собирательрусского авангарда и художников советского андеграунда. В 1977 году перед эмиграцией в Грецию значительную часть своей коллекции передал в дар Третьяковской галерее. Один из первых, кто в 1950-е годы начал активно покровительствовать А. Звереву, приобретая и пропагандируя его работы. далее |
|
Выдающийся коллекционер, меценат, крупнейший собиратель русского авангарда и художников советского андеграунда. В 1977 году перед эмиграцией в Грецию значительную часть своей коллекции передал в дар Третьяковской галерее. Один из первых, кто в 1950-е годы начал активно покровительствовать А. Звереву, приобретая и пропагандируя его работы.
"Я был представлен Анатолию Звереву композитором Андреем Волконским в 1954 году, когда он принёс мне массу рисунков и акварелей. Мой интерес к нему, начавшийся тогда, постепенно перешёл в дружбу. Директор нью‑йоркского Музея современного искусства Рене Д’Арнонкур и бывший директор музея Альфред Барр, которые были у меня в 57‑м году, самым высоким образом оценили творческую деятельность Зверева, выделяя его особо из группы молодых художников послесталинского периода, чьи работы были выставлены у меня. Именно тогда они приобрели несколько его работ для музея. Зверев не получил официального художественного образования. Он поступил в Художественное училище памяти 1905 года, а несколько месяцев спустя был исключён за неподчинение правилам училища. Его «вина» была в том, что он спорил с преподавателями, отказываясь изменять линии рисунков, исправлять композицию, не говоря уже об оттенках и цветах. Однажды у него хватило ума сказать, весьма бессовестным образом, перед всем классом, о том, что функции преподавателя должны быть ограничены. «Учитель, – сказал он, – должен содержать в порядке классную комнату, снабжать учеников красками, точить карандаши и ничего больше». За это он был исключён из училища. Ранние работы Зверева, относящиеся к 1953 году, были выполнены на обычном картоне небольшого формата в стиле известных русских пейзажей. В этих чёрно‑белых рисунках раннего периода ощущается «обнажённый нерв». Это не было подражание Ван Гогу, но что‑то очень близкое по духу голландскому художнику было. Зверев так же не избежал шизофрении, и это некоторым образом сближает двух художников. Ничто не повлияло на слух Зверева, однако он несколько раз умудрялся ломать пальцы при весьма необычайных обстоятельствах. Тем не менее это никогда не касалось пальцев его правой руки. Мне кажется, что Зверев никогда не расставался с бумагой и карандашом, даже во сне. Любой живущий или умерший художник мог позавидовать его продуктивности. Когда его творческий гений был в полном расцвете, его работа, по мнению некоторых западных критиков, могла идти в сравнение лишь с работами Матисса или Пикассо. Его гуаши и акварели 1957 года я обычно относил к «мраморному» периоду. Это был период, когда художника не сильно волновали «чистые» цвета, и смешивал он акварели не на палитре, а в блюдце, где краски, перемешиваясь друг с другом, образовывали привлекательную поверхность, похожую на мрамор. Напрочь отсутствовали чисто красные, голубые и жёлтые цвета, а из‑под кисти спонтанных штрихов Зверева проглядывала сияющая коллекция драгоценных камней. Альтернативой служил громадный металлический таз для кипячения воды с кистью, которая постоянно плавала в нём; кисть макалась поочередно в разные слои гуаши. Скорость мазков кисти перемежалась и напоминала палочки в руках барабанщика; капли гуаши разлетались вокруг, забрызгивая обои. Пришлось поставить фанерные перегородки с трёх сторон стола. Когда высыхала гуашь и в портрете угадывался образ модели, трудно было представить, что портрет был создан подобным образом. Наряду с репрезентативной, Зверев стал заниматься абстрактной живописью. Этот период продолжался на протяжении всего 1958 года. Позднее каждый рисунок стал поиском выражения новых форм. Казалось, что Зверев не в состоянии обрести удовлетворение, он никогда не повторял себя при поиске новых путей в искусстве. На протяжении многих периодов своей работы он использовал трёхцветную технику – с помощью белого листа и трёх цветов он создавал романтические натюрморты, портреты и рисовал стволы деревьев. «Настоящий художник, даже если у него нет и одной краски, должен уметь рисовать при помощи кусочка земли или глины», – говорил обычно Зверев. Ярко выраженный художник‑экспрессионист, он следовал лозунгу: «Анархия – мать порядка». И этот порядок всегда присутствовал в его работах. Белый лист или полотно не пугали Зверева. Он рассматривал их подобно тому, как музыкант рассматривает свой инструмент – например, виолончель. Смычком Звереву служила большая кисть, с которой он никогда не расставался. Работая с маслом или гуашью, он, казалось, играл – без малейшего напряжения, ничего никогда не исправляя. Что же касается его рисунков, то я бы сказал, что Зверев не рисовал так, как это обычно делают художники‑графики. Он фиксировал всё, что окружало его. Зверев очень и очень много рисовал, там, где только мог. В метро, в поезде, в трамвае. Даже в кинотеатр он брал с собой блокнот и делал наброски до начала фильма. Его широко известные походы в зоопарк с многочисленными блокнотами, в которых он рисовал зверей и птиц, были, по всей вероятности, вершиной его творчества. Здесь я хотел бы сравнить снайперский глаз Зверева с линзами фотокамеры, где единственная разница была в том, что плёнку в камере необходимо менять, в то время как запас Зверева вечен. Дважды мне посчастливилось присутствовать на подобного рода сеансах (я не могу найти другого слова). Наброски каждого зверя или птицы делались 6–8 раз, с различных позиций. Анатолий рисовал зверей кончиками пальцев, смоченными тушью, рисовал двумя руками. Из‑под дрожащих прикосновений его пальцев на бумаге появлялись олени, газели и другие животные, которые, казалось, двигались. Когда он работал акварелью, то пользовался одной большой кистью, как я уже об этом упоминал. Когда Зверев работал гуашью, он щедро промывал кисть водой. Но самое интересное, что, работая маслом, Зверев также пользовался одной большой кистью, никогда не используя скипидар или любую другую чистящую жидкость. Выдавив краски на палитру, он свободно брал необходимые ему цвета, один за другим, всё время переворачивая кисть и нанося масло на холст. При этом краски на палитре оставались чистыми и не перемешивались. Я спросил Зверева, как это ему удается. «Это очень просто, – ответил он. – У большой кисти больше волосинок, гораздо больше, чем в нескольких кистях среднего размера. Но нужно знать, как пользоваться одной кистью. Начиная с маленького уголка на кисточке, нужно при помощи нескольких волосков аккуратно обмакнуть в необходимую вам краску и затем перенести её на те части полотна, где эта краска необходима для композиции. В процессе нанесения этой краски в различных частях холста почти вся краска сходит с кисти, и она становится сухой. Затем я переворачиваю кисть и использую следующий цвет, обмакивая те волоски кисти, которые всё ещё довольно чистые, и наношу этот цвет там, где необходимо. Следующий цвет может быть перенесён на холст той стороной кисти, которая была использована до того. Почти сухая кисть придаст другой оттенок чистому цвету. Затем я нахожу место на холсте, где мне нужен этот оттенок. Таким образом, моя кисть становится палитрой, где краски смешиваются спонтанно, создавая гамму мягких цветов. Используя эту технику, очень важно соблюдать последовательность выбора красок. В подобного рода спонтанном написании возможно работать лишь одной кистью, – рассказывал Зверев. – Вообразите себе солдата, у которого вместо пулемёта несколько ружей, которые необходимо постоянно перезаряжать». Больше всего поражает зрительное видение в спонтанных работах Зверева. В Переделкино, где похоронен поэт Борис Пастернак, есть церковь с жилой частью, где жил патриарх, относящаяся к XV веку. Однажды ранней весной, когда ещё не растаял снег, Зверев написал 6 полотен (100×80), над которыми он работал в течение десяти часов. Не прерываясь ни на минуту, Зверев перенёс разнообразные пятна на холст. Прошло около часа. Я внимательно посмотрел на холст, где не было ни малейшего намёка на церковь. На мольберте был абстрактный рисунок, хаотическое нагромождение пятен различных цветов. За несколько минут до того, как подписать работу, Зверев принялся за создание церкви при помощи другой стороны кисти. Выделив более отчётливо три пятна, он придал другим пятнам лукообразную форму куполов. Появились очертания церкви, а затем, Бог знает откуда, деревья в церковном дворе и тающий снег. Мерцали стены розовой церкви. В то время как я стоял с открытым ртом, Зверев настолько хорошо передавал краски неба, тающего снега и стен церкви на этих шести полотнах, что даже неопытным взором можно было безошибочно определить, в какое время дня сделан каждый из рисунков. Зверев, вне всякого сомнения, – явление уникальное. Художники Москвы и Ленинграда ценят его особенно высоко и говорят: «Когда Господь помазывал нас, художников, он опрокинул чашу на голову Толи». Как личность Зверев был «не от мира сего». Замечательный художник и поэт в течение многих лет раздавал свои рисунки всем, кому они нравились. Всегда бедно одетый, в костюме, который вовсе не подходил ему, ибо он достался ему от кого‑то, он напоминал одного из парижских бродяг. Ему не нравилась новая, с иголочки, одежда. И всякий раз, когда я покупал ему новый костюм или новое пальто за границей, он сразу шёл и продавал их. На первый взгляд возраст Зверева не соответствовал его облику. В возрасте 20–25 лет он мог часами гонять консервную банку с моим 10‑летним сыном. В то же время, разговаривая с другими художниками, Зверев изумлял всех своим глубоким интеллектом и природной мудростью. Однажды я оставил Зверева и Фалька вместе на несколько часов, потому что вынужден был покинуть их из‑за весьма срочного дела. Я так никогда и не узнал, о чем они говорили, но когда я провожал Фалька, он мне сказал: «Вы знаете, Костаки, я ценю Зверева как художника, но, поговорив с ним, я осознал, что его философский склад ума гораздо выше, чем его великий дар художника. Я был изумлён его интеллектом». Дружить со Зверевым было большим удовольствием, но не всегда это было легко. Однако наша дружба состоялась благодаря его честности и такту, и длилась она много лет и прекратилась с моим отъездом на Запад." |
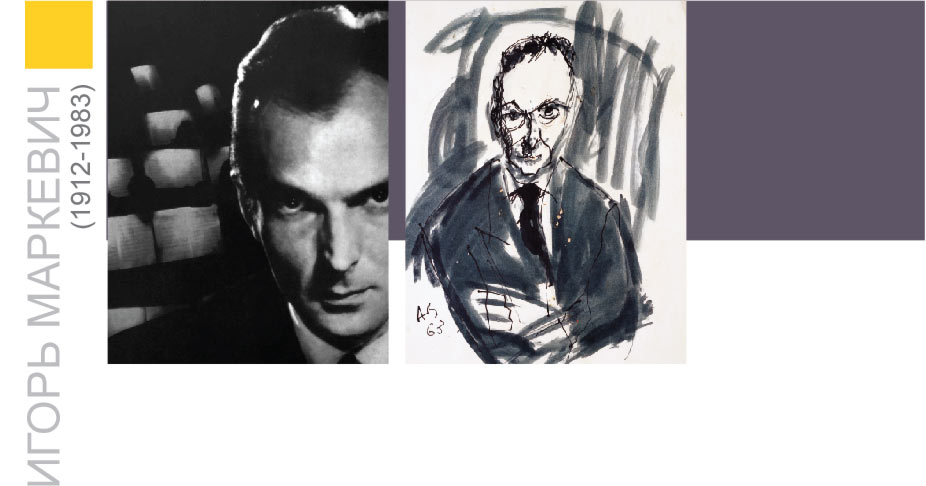
|
|
ИГОРЬ МАРКЕВИЧ (1912-1983)
французский дирижер и композитор. Родился в Киеве, однако через два года семья перебралась в Париж;рано проявил исполнительский и композиторский дар (в 12 лет дебютировал как солист на сцене Ковент-гарден). Прославился как один из лучших исполнителей русского классического репертуара. Всю жизнь сохранял живую связь с русской культурой (участвовал в антрепризе Дягилева, был женат на дочери Нижинского). С середины 1950-х Игорь Маркевич активно гастролирует в СССР, где знакомится с Георгием Костаки, а через него со Зверевем. С первого момента знакомства оставался большим ценителем и пропагандистом зверевского искусства. В 1966 году организовал первую (и единственную прижизненную) выставку А. Зверева в Париже в Галерее Мотт. далее |
|
Французский дирижер и композитор. Родился в Киеве, однако через два года семья перебралась в Париж; рано проявил исполнительский и композиторский дар (в 12 лет дебютировал как солист на сцене Ковент-гарден). Прославился как один из лучших исполнителей русского классического репертуара. Всю жизнь сохранял живую связь с русской культурой (участвовал в антрепризе Дягилева, был женат на дочери Нижинского).
С середины 1950-х Игорь Маркевич активно гастролирует в СССР, где знакомится с Георгием Костаки, а через него со Зверевем. С первого момента знакомства оставался большим ценителем и пропагандистом зверевского искусства. В 1966 году организовал первую (и единственную прижизненную) выставку А. Зверева в Париже в Галерее Мотт. «Представляя в Париже работы Зверева, Маргерит Мотт и я надеемся, что знакомство с художественными течениями, ещё неизвестными на Западе и с которыми я столкнулся во время моих путешествий по СССР, окажутся весьма полезными. Не является ли подобная выставка отражением современного возрождения живописи, литературы и музыки на Востоке, где появились новые люди, удивительно свободные от предрассудков, полные нежности и не скрывающие свои слабости? Если Анатолий Зверев малоизвестен даже в собственной стране, то это оттого, что речь идёт о неуловимом, трудном человеке, который остается загадкой для самых близких его друзей. Его поклонники описывали мне первую встречу с бледным, худым молодым человеком в овчинном полушубке, слишком большом для него, в разных ботинках, но который дарил им свои полотна, «стоимость которых они не могли бы оплатить в любом случае». И с этой первой встречи они, как и западные знатоки, которые уже смогли посмотреть его работы, больше не сомневались в том, что перед ними – удивительно одарённый художник, призванный, по‑видимому, занять место среди лучших художников нашего времени. Эта выставка представляет нам его как портретиста, пейзажиста, пишущего гуашью, маслом и акварелью. Скоро будут опубликованы его рисунки, позднее гравюры и офорты. Можно только удивляться небрежности, с которой используются им материалы: гуашь иногда смешивается с акварелью, для масла используется картон и даже афишная бумага. Зверев пишет всем, что попадается под руку. Я видел, как он заканчивал ветку сирени чудесными прикосновениями творогом. Кому‑то, обеспокоенному результатом применения такого недолговечного материала, появлением в будущем плесени, – он спокойно ответил: «Кто вам сказал, что так не будет лучше?» Мы решили представить значительное количество автопортретов как наиболее своеобразный аспект в творчестве Зверева. Только в автопортретах Ван Гога, как мне кажется, выявляется такой же настойчивый поиск сущности человека через познание самого себя, поиск, который у Зверева смешивается с явным нарциссизмом. Подойдём к положению такого художника в современной живописи. Зверев – это «случай», случай человека, который вновь открыл, сам не сознавая того, историю современного искусства. Советский художник Фальк говорил о начинаниях подростка: «Бесполезно учить его тому, что знают все, потому что он знает то, о чём другие не ведают». Полные намёков на эстетизм, работы Зверева проложили новые пути в современной живописи, – пути, направляемые исключительно его интуицией. Отправляясь от икон и полотен художников‑классиков, виденных им в музеях Москвы, Зверев последовательно «прошёл» Моро, Одилона, Редона, Руо, Дюфи, Сутина, Кокошку, Шагала или Бэкона, которых он никогда не видел, придумывая себе попутчиков на несколько дней, несколько часов, иногда лишь на несколько соприкосновений. В его рисунках чувствуется близость Востока. Глядя на серию его лошадей, выполненную чёрной тушью, Жан Кокто восхищался этим «китайский Домье», увидев в творчестве Зверева мост, перекинутый к западному искусству. Однако непостоянство Зверева, которое может быть сравнимо с непостоянством Пикассо, хотя творчество его охватывает только полтора десятка лет, делает всякую классификацию, как мне кажется, преждевременной. Но несомненно одно: его творчество – это вершина поэзии, попавшей в надёжные руки, и служат ей краски во всей красе и силе. Во время работы Зверев достоин камеры Клузо. Им овладевает исступление, когда рука, как бы управляемая приказом, выбрасывает бурный поток образов, за которым едва успевает мысль. Это ломка психологических барьеров и такая быстрота мысли, что некоторые работы Зверева тому, кто видит их рождение, представляются превосходными энцефалограммами. Нередко он создает сотни рисунков или десятка два гуашей в день. Бесконечное изобретение живописного материала позволяет ему с лёгкостью бросаться «манерами», едва оформившимися; техникой, придуманной и исчерпанной в один момент. Эта нетерпеливая плодовитость, эта торопливость выразить свои идеи и уверенная поступь странника по земле, – не делают ли они Зверева неким Гельдерлином в живописи? Два слова о нём как о человеке. Чтобы сослаться на типы, известные парижской публике, скажу, что в нём есть немного от Франсуа Вийона, Жана Жене, Гавроша, Верлена, не знаю, что именно – от францисканца. Но прежде всего Зверев напоминает мне постоянный персонаж русской литературы, который легко определяется словом «простодушный» и бессмертным примером которого является Платон Каратаев из «Войны и мира». Трудно помогать бродяге, но он вызывает у своих друзей любовь, терпение и родственную заботу, как Ван Гог у Тео. Он лукавый и кроткий, как ангелочек, злой, когда раздражается, его беседа, как кажется, всё ставит на своё место, и вместе с тем – из всего делает вопрос. Когда я недавно сказал, думая доставить ему удовольствие, что западные критики, увидев его картины, нашли их прекрасными, он мне просто ответил: «Им очень повезло узнать то, что хорошо». Я добавлю, что его имя на русском языке означает «дикий», и Зверев – из диких. Таков художник, которого предстоит открыть французским любителям живописи. Теперь слово за его работами.» |
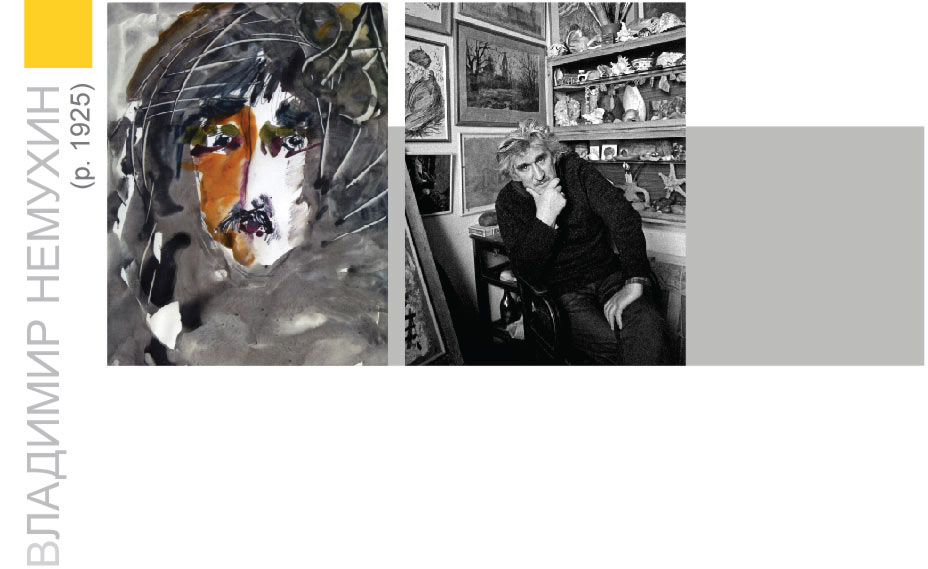
|
|
ВЛАДИМИР НЕМУХИН (Р. 1925)
художник, представитель неофициального искусства, участник легендарных «Бульдозерной» и«Измайловской» выставок (1974). Экспериментировал в духе кубизма и абстракционизма. В середине 1960-х активно развивал жанр полуабстрактного натюрморта с картами. Участвовал более чем в 50 выставках в стране и за рубежом. Организатор и куратор единственной персональной прижизненной выставки А. Зверева в Москве (Горком графиков, 1984). далее |
|
Художник, представитель неофициального искусства, участник легендарных «Бульдозерной» и «Измайловской» выставок (1974). Экспериментировал в духе кубизма и абстракционизма. В середине 1960-х активно развивал жанр полуабстрактного натюрморта с картами. Участвовал более чем в 50 выставках в стране и за рубежом. Организатор и куратор единственной персональной прижизненной выставки А. Зверева в Москве (Горком графиков, 1984).
"Как я встретился с Анатолием Зверевым? Всё это тонет в 60‑х годах. Тогда мы, художники, находили друг друга по каким‑то отдельным сведениям, и всё это было очень интересно – кто как рисует, кто что делает. Сами мы тогда были абстракционистами. Мы себя утверждали. Утверждали каждый день, каждый час, и фигуративизм нам уже не был интересен. Если на картине было что‑то, скажем, с носом и глазами – то уже не годилось. Фамилию Зверев я услышал в 59‑м году. Слухи о нём тогда ходили самые разные, и мне было любопытно увидеть его работы. И вот, наконец, я их увидел, когда как‑то попал к Костаки. Помню, что тогда они не произвели на меня особого впечатления, хотя бы потому, что я был совершенно ошеломлён увиденным Малевичем, которым я бредил, я никогда не видел Поповой, не видел Кандинского, потому что все эти музеи были закрыты. В общем, работы Зверева показались мне любопытными, но не настолько, чтобы как‑то меня захватить. Костаки же отзывался о Звереве очень восторженно, как о каком‑то выдающемся художнике, цитировал Фалька, который сказал о нём, что «каждое прикосновение его драгоценно». Костаки, конечно, остро чувствовал Зверева, но при этом он всё время выяснял у других степень его талантливости, как бы не умея сам сполна её оценить. Очень любил Костаки и Владимира Яковлева, который, как мне кажется, волновал его особенно. Почему? Дело в том, что Костаки сам втайне рисовал, и когда он оказался в Греции, то нарисовал там всё, о чём мечтал в Москве. Я помню его слова: «Я, собирая всех, загубил в себе гения». И я вполне допускаю это. Так вот, творчество Яковлева было ему как‑то понятнее, доступнее что ли. Его он относил к художникам‑примитивистам, то есть Яковлеву каким‑то образом можно было как бы подражать. А подражать Звереву было просто невозможно, тем более что собирал Костаки его ранние работы, в которых гениальное дарование Зверева было очевидно. Я думаю, что не только Костаки это видел. Это видели многие художники. Очень высокую оценку работам Зверева дал Пикассо. Когда в 1965 году его друг, французский дирижёр Игорь Маркевич привёз из Москвы в Париж зверевские работы и показал ему, Пикассо отозвался о Звереве как об очень одарённом художнике. Как сейчас цитируют Пикассо, что, мол, Зверев «лучший русский рисовальщик» – эти слова, мне кажется, несколько надуманные, преувеличенные. Пикассо знал русское искусство больше по авангарду, так что оценка эта не совсем точная. Но, как я уже сказал, была она, конечно, очень высокая. Первый раз Зверев приехал к нам в Химки‑Ховрино, где я жил в однокомнатной квартире с Лидией Мастерковой. Это был 64‑й год, и я уже слышал о его залихватской жизни всевозможные и самые невероятные рассказы. Я к нему очень присматривался и помню, что поначалу он показался мне даже несколько банальным. На нём была белая чистая рубашка, а я ожидал увидеть его каким‑то забулдыгой. Он показался мне даже благообразным. Но то, что он говорил – как‑то отрывисто и афористично, – уже тогда стало для меня любопытным. На Лиду его высказывания не произвели такого впечатления. Она себя считала гениальной художницей и не терпела никаких мнений, противоречащих её собственным. Зверев, наверное, сразу почувствовал по скромной атмосфере нашей квартиры, что делать ему здесь особенно нечего. Он осмотрелся, как бы познакомился с нами и ушёл. Потом я несколько раз встречал его у Костаки, но первое настоящее знакомство, вылившееся в близкую дружбу, произошло в 68‑м году. Я тогда разошёлся с Мастерковой и переехал жить в мастерскую. Состояние моё было крайне тяжёлым. Я вдруг остался один. Я страдал и не знал, что мне дальше делать. И вот как‑то раздался стук в дверь, и на пороге появился Зверев. Пришёл он один. К тому времени я уже как‑то обосновался в мастерской: поставил стол, лавку, и был счастлив от того, что вдруг его увидел. Ведь я пребывал чуть ли не в маразме, который он вытолкнул из меня мгновенно. Ища у него какого‑то утешения, совета, я поделился с ним своими переживаниями, и он сказал мне следующее: «Все твои несчастья, старик, – от общества. Это общество на тебя давит. А общество – это как стена. Вот видишь, стена у тебя напротив, а ты картинками её завесь. И она будет от тебя отделяться». Помню, что мне это очень понравилось. Знакомство началось, конечно, с выпивки и продолжалось очень, очень долго. Говоря о творчестве Зверева, интересно послушать, как он сам его оценивал. А он всегда говорил мне: «Старик, я был художником до 60‑х годов, потому что рисовал для себя. После 60‑х я стал рисовать для общества». Особенно он ценил свой период ташизма. Он говорил: «Ташизм изобрёл я, а не Поллок». Он уже отошёл от рисуночного построения и ушёл в другое видение мира. Он писал кляксами, большими кляксами, и такие работы я видел у Костаки и в других домах. Он считал, что ташизм – это самое яркое проявление в его творчестве: «Я писал, старик, кровью и повторить это уже больше не смогу». Я думаю, что в разных домах Зверев рисовал абсолютно по‑разному, и иногда это превращалось просто в фарс. Как бы стараясь угодить хозяину дома за ночлег, он рисовал всё то, о чём его просили, и все эти общественные заигрывания очень изменили его как художника. Вот приходит он к кому‑нибудь домой. Его просят: «Толечка, нарисуй собачку. Нет, давай кошечку. Нет, давай тебя с кошечкой и собачкой. А птичку можно? Ну, давай с птичкой». Он почти нигде не рисовал сам по себе и всегда спрашивал, что изобразить. Вспоминаю, как он хотел отблагодарить врача, когда лежал последний раз в больнице с переломанным плечом. Он совершенно не знал, что ему рисовать, и попросил врача написать, чего он хочет. Желания врача оказались очень любопытными. Он написал: 1) орёл; 2) гора; 3) отдых на даче; 4) что‑то связанное с машиной и собакой. Толя нарисовал ему и его жену, и что‑то вроде какой‑то массовки под какой‑то сосной, где‑то на Москве‑реке. Кстати, когда у меня возникло желание сделать Звереву персональную выставку, то поначалу я просто пришёл в ужас – что я затеял, за что взялся? Я был просто обескуражен, когда смотрел разные коллекции, в которых были всякие там собачки, кошечки и прочее. Создавалось впечатление, что Звереву просто постоянно диктовали, что нужно рисовать. Сам он выставки этой не просил, ему всё это было безразлично. Только потом уже, когда мы стали доставать его работы, он стал припоминать, где бы они могли быть. Ну, было у меня несколько хороших его работ – действительно очень хороших, – но этого, конечно, было недостаточно. Конечно, много его работ было у Асеевой, но лично мне все это не очень нравилось за исключением нескольких замечательных рисунков. Но то, что висело на стене, казалось мне слишком салонным, что ли, трудно даже определить. Меня эти картины, включая её портреты, даже немного как‑то раздражали. Асеева… из двадцатых годов, из этого невероятного бедлама, и вдруг – всё это превращается в нечто такое слащавое, запудренное искусство. Я вспомнил прекрасные зверевские работы у Костаки, но Костаки уехал в Грецию и как будто всё увёз. Я знал, что многие картины сгорели при пожаре на даче, но на всякий случай позвонил его дочери Наташе. Она сказала, что Толины работы у неё есть, и я приехал. Когда я увидел их, даже те, которые обгорели, то с облегчением вздохнул. Да, выставка состоится. Я очень упрашивал Зверева вести себя на открытии прилично: «Ведь это твой вернисаж. А вечером отметим». В тот период, когда Зверев стал писать для общества, происходят изменения и в его личной жизни. Имея двух замечательных детей – сына и дочь, – он расходится со своей женой «Люсей № 1» и уходит в московское бродяжничество. И это отдельный рассказ, потому что Зверев принадлежит, конечно, Москве. Такой не мог появиться ни в Ленинграде, ни в каком другом городе. Он был невероятно одержимым человеком, и одержимость эту люди использовали. И если бы они знали, насколько он одержим, то эксплуатировали бы его ещё больше. У него была особая страсть к материалу. Это была просто жадность к нему ещё с детства (от бедности). Сколько бумаги ни дай – она будет вся изрисована. И эта одержимость проявлялась у него во всём. Он как‑то попросил меня: «Старик, дай мне толстую большую тетрадку. Хочу роман написать». И… к четырём часам утра роман был закончен. Он писал отдельными буквами. А это тоже не так просто было – исписать ими всю тетрадку объёмом примерно в сто страниц. Вот такая одержимость… Сам Костаки удивился, когда попросил Зверева нарисовать серию рисунков к Апулею, оставив ему на своей даче пачку бумаги и бутылочку. Потом он рассказывал: «Когда я приехал вечером, вся пачка была изрисована, а он, как ни в чём ни бывало, – с собакой играет». Кстати, несколько слов о его подписи. В 15–16 лет на рисунках и картинках он ставил свое «АЗ», а начиная с 1954 года, подписывает всё, абсолютно всё. Интересно. Ведь такой незащищённый художник… и будто какая‑то рука провидения заставляла его всё подписывать. Ведь молодые художники по‑разному относились к своей подписи. Многие считали, что это неудобно, как‑то нескромно, а он подписывал всё. Его «АЗ» всегда очень органично входило в композицию картины. Часто подпись соединялась с годом. Я помню, как счастлив он был в 1983 году, потому что цифра «3» читалась одновременно как буква «З». Он получал удовольствие от этой каллиграфической подписи, которая выглядела на рисунке почти как китайская печатка. В моей коллекции есть семь разновидностей его подписи, и я хочу сделать фарфоровую тарелку, на которой все они будут изображены. Конечно, он родился чрезвычайно одарённым человеком, просто невероятно одарённым. Он родился гениальным музыкантом. Я слышал, как он играет. Это был не просто стук кулаками по клавишам. Он играл, великолепно играл. Я помню, как в одном доме он сел за фортепьяно, и я просто поразился. Передо мной сидел пианист. Удивительное было состояние! В такой же степени он был удивительным живописцем и рисовальщиком. А скульптор какой он был! Я видел в одном доме его лошадок. Он делал их из глины, из серой глины… Я ещё хотел договориться с хозяевами, чтобы отлить их в бронзе, но они собирались в эмиграцию, и я потерял этих людей. Да, он был прекрасным скульптором и не уступал, конечно, Паоло Трубецкому. Но Трубецкой был в своём времени, а Толя – в своём. И шашистом он был прекрасным. Знаменитый Копейка говорил, что если бы не его рисование, то он был бы чемпионом по шашкам. Он ходил в клуб шашистов в Сокольниках, где к нему относились просто с поклонением. Ну и конечно, его безумная страсть к футболу. Его стихия была – быть вратарём. А как он стоял в воротах! Лишь бы не пропустить мяч. Для него это было каким‑то высшим наслаждением, блаженством просто. Мы с ним ходили на футбольные матчи. Он был необыкновенно азартным. Мы всегда брали с собой водку или пиво. Без этого он на стадион вообще не ходил. Билеты он брал сразу на все трибуны. Билетов по двадцать брал. Для чего? Чтобы в случае чего можно было бы мгновенно смыться. У него была настоящая мания преследования, хотя в те времена за нами действительно кто‑то следил. Ведь тогда уже были какие‑то смелые диссидентские вылазки. И вот покажется ему, что за ним кто‑то следит, и он волочёт меня на какую‑то другую трибуну – с северной на южную, например. Это ужас какой‑то был, таскал меня, как какую‑то кошку: «Ты либерал, ты ничего не понимаешь. Ты что, не видишь, что за нами следят, за нами ходят?» Или хватает меня и выводит на какую‑то другую улицу, тут же ловит такси, запутывая следы. Был очень интересный случай, когда он меня из Пушкинского музея выводил. Очень любопытный случай. Я ему предложил: «Давай сегодня будем опохмеляться культурно. Пойдём в Пушкинский музей». Он отвечает: «А знаешь, там, кстати, какие‑то сардельки и сосиски продаются. Заодно и пообедаем в буфете. И пивцо там бывает. Пойдём». И вот мы пришли. Буфет был закрыт. Мы плелись по залу, и я остановился, может быть, первый раз в жизни, в Греческом зале перед скульптурой мальчика, вынимающего занозу. Стоял и наслаждался. Вдруг Зверев меня хватает и волочёт из этого зала: «Ты что, не видишь? Ты что, с ума сошёл? Ты не видишь – за нами ходят, дурак, либерал! Сейчас досмотришься… Тебя заберут, х… ты засматриваешься?» И весь он такой всклокоченный хватает меня, и вот мы с такими приключениями выбрались из этого зала и отправились дальше. Короче, были у него свои странности. Например, совершенно фантастическая брезгливость. Как‑то я ночевал у него дома в Свиблово. По дороге мы заехали с ним в аптеку, где он купил громадное количество соды, которой обсыпал всю квартиру – стол, пол, комод, диван, на котором я должен был спать и т. д. Дома он почти никогда не ел. Помню, мать оставила ему завтрак – яблоко и два яйца. Он сказал: «Старик, если хочешь есть, то ешь. Я это есть не буду». Он часто ночевал у меня под дверью. Приходишь, а он спит, подстелив под себя две газеты, и часто это случалось зимой. Приходит – меня нет, а он где‑то не устроился, куда‑то не попал. Вот так и спал, или дожидался меня: «Старик, это я». Спрашиваю его: «Ну что ты делаешь? Разве так можно?» – «Ну что сделаешь, старик. Никто не пустил». Так что очень много было в его судьбе неуёмного, тяжёлого, но он никогда не жаловался. Никогда. Воспитывался Зверев на Третьяковской галерее. Очень любил русское искусство, хотя и называл себя учеником Леонардо да Винчи. В нём он видел человека всемогущего, который занимался поэзией, инженерией, скульптурой, архитектурой, трактатами, и он выше себе никого не представлял, хотя трудно, конечно, сказать… Его оценки были какие‑то очень свои и очень точные. Однажды он заговорил о моём творчестве. Так вот, помню, как он мне сказал: «Старик, знаешь что? Если бы ты свои белые работы не сделал, ты бы не спасся». И где‑то он был прав. Я потом пытался как‑то осмыслить, почему он именно так сказал, пытался вернуться к его оценке. Но спрашивать его об этом было бесполезно. Он не любил вопросов. А уж если ты начинаешь настаивать, приставать к нему с ними, то он вообще уходил от разговора. Художников он никаких не ругал, хотя бы потому, что не нужно ему было всё это, просто не интересно. А если и был у него в каком‑то смысле соперник, то был им Владимир Яковлев. Зверев никогда не оставался равнодушным к его творчеству и реагировал на него очень агрессивно. Яковлев же относился к нему с большой симпатией и называл его всегда бойцом. Так вот, когда я показывал Звереву рисунки и картины разных художников, он всегда был спокоен. Но когда я начинал говорить о Яковлеве, он мгновенно становился агрессивным и начинал ставить ему оценки: «Кол! Кол! Кол!» – «Но почему кол? – спрашиваю я. – Я сейчас покажу тебе ещё его работу» – «Ну ладно, старик, – три с минусом, больше не поставлю». Вот здесь был момент какой‑то очень непростой. Зверев, со свойственным ему ёрничаньем, когда говорил о Яковлеве, высказывался так: «Ну, конечно, старик. Ему всё можно, потому что они все в польтах хороших ходят». Так он сказал однажды, когда увидел родителей Яковлева, у которых пальто были с каракулевыми воротниками. Зверев, очевидно, считал это верхом благополучия, что за воротником, мол, может любое творчество спрятаться. Рисуй, как хочешь. И это был не юмор, и он всегда про пальто мне эти напоминал. Короче, Яковлева он очень остро воспринимал, я это хорошо помню. Зверев любил поэзию, и его отношение к ней также было весьма своеобразным. Он, например, не любил Пушкина, считая его поэтом официальным, а всё официальное ему не нравилось. А вот Лермонтов – это не официальный поэт. Он сам мне об этом говорил. Лермонтов был для него более романтичным, что ли, и по Лермонтову он много рисовал. Я однажды спросил его: «А не попробуешь ли ты Демона нарисовать?» Он ответил: «Да знаешь, Врубель уже всё сделал». А Врубеля он очень любил, и иногда даже сравнивал себя с ним. Его любимой работой, которую он нарисовал ещё в детстве, была роза. «Ты знаешь, старик, – говорил он мне, – это была гениальная роза, как у Врубеля». Эта роза была у Румнева, и я её не видел, но уверен, что она была написана не маслом. Кстати, очень многие гонялись за его маслом, а я считаю, что Зверев – это художник карандаша и акварели. Масло он вообще не любил. Называл его «масляченко». И он не работал раньше им, хотя бы потому, что акварель была для него доступна, по карману просто. И он любил этот материал и чувствовал его. Знал ли Зверев себе цену? Конечно, знал. И знал свои возможности. Он действительно был снайперским рисовальщиком, и всё это было дано ему от природы, от Бога. Хотя оценить Зверева могли далеко не все художники. Ведь для того, чтобы щедро оценивать, надо самому быть свободным. Для меня, например, свобода – это, прежде всего, интеллектуальная возможность её осуществить, к чему, как мне кажется, сам Зверев особенно не стремился. Возможно, ему это было и не свойственно. Как это ни странно, зверевское дарование находится в сложном с ним противоречии. И для меня он остаётся загадкой, и очень непростой загадкой. Но одна из спасительных возможностей представить себе Зверева, как мне кажется, это через христианство, которое так ощутимо в его творчестве. Просто удивительно: такая судьба – и такая чистота в искусстве. Просто творение Божие. И так – у всех больших художников. Это было у Владимира Вейсберга, это есть у Владимира Яковлева – людей страдающих, безумно страдающих. В период моих первых встреч со Зверевым у него начался роман с вдовой поэта Николая Асеева – Оксаной Михайловной. Мне было очень интересно на неё посмотреть, ведь такая легендарная женщина, из такого великого прошлого. Он всегда трогательно покупал ей цветы и буквально засыпал письмами. Как‑то он остался у меня ночевать, предварительно прихватив с собой кучу газет. Он расстелил их на полу и всю ночь шуршал ими, как ёжик. Утром, пока я ещё спал, он стал строчить какое‑то жуткое количество писем, в каждом из которых было всего по несколько слов. Он тут же запечатывал их в конверты и просил меня: «Старичок, ты помоги мне всё это в ящик попрятать»… И письма все эти были адресованы Асеевой. Мы разносили их по Садовой, Малой Бронной, а на следующий день – всё то же самое. Я говорил: «Старик, давай напишем одно длинное письмо. Ведь это ужас какой‑то – разносить всё это». В ответ я слышал: «Ты в этом деле ничего не понимаешь». И вот, наконец, я её увидел. Она пришла ко мне с Толей и сразу показалась мне очень милой, жизнерадостной и непосредственной. Помню, что был декабрь. На ней была рыжеватенькая дублёнка, а под глазом – огромный синяк! Она начала мне тут же жаловаться, что он её ударил, а он – на её неверность. Оказалось, что он приревновал её к врачу. Когда тот начал осматривать Оксану Михайловну во время её болезни, Зверев рассерженно спросил его, показывая на прослушивающий аппарат: «Зачем тебе даны эти штуки резиновые, а руками лапать не смей!» Кстати, ревность у него была совершенно фантастическая, а тут ещё устанавливали на доме доску Асееву, и началась ещё борьба с этой доской: мол, ни к чему она. У Асеевой было три сестры – Мария, Надежда и Вера. С их стороны всегда исходили запреты на вхождение Анатолия в дом к Оксане Михайловне. Они считали, что ей пора со Зверевым расстаться, что он сведет её в могилу, и Анатолий постоянно вёл с ними борьбу, называя их «чердачными старухами». В общем, много было всяких смешных и курьёзных ситуаций. Меня однажды поразил его телефонный разговор с Асеевой. Он невероятно её ругал, ругал последними отборными словами, и я не мог просто этого выдержать. «Послушай, – сказал я ему, – или немедленно прекрати всё это, или просто выматывайся отсюда. Я не могу всё это слушать». Но он продолжал крыть её в трубку, а она, к великому моему удивлению, всё это выслушивала и даже в тон ему что‑то ответила. И тут я подумал: «Это у меня чего‑то не хватает, а не у них». Я понял, что сам не созрел ещё до таких не просто хороших, а больших, мощных отношений. Отношения их, если так можно выразиться, я назвал бы именно мощными. Они были очень сложными. Это были равные отношения. Она его безумно любила. Я думаю, что он был человеком, который мог ей что‑то заменить, что‑то напомнить, что‑то создать в её где‑то уже неприкаянной старости. Ведь ей самой доставалось уже очень мало. Её жизнь сводилась в основном к вечным копаниям в архивных материалах. О творчестве Асеева была написана уже куча диссертаций, и Оксана Михайловна только засвидетельствовала разные ситуации и факты, которые были с ним связаны, а Зверев был всегда и во всём непредсказуем. Она обожала его работы, и он просто задаривал её ими. Она рассказывала, как он, лёжа в Тарусе с переломанной ногой и рукой, её рисовал, самозабвенно рисовал. А я очень жалел, что он не рисовал её, скажем, в 55‑м, или 57‑м, или в 59‑м годах, когда это были портреты совершенно другого творческого момента. Он, конечно, старался, чтобы работы эти ей нравились и делал её моложе. Да он и представлял её такой. Конечно, эта любовь, эта встреча Оксаны Михайловны с Толей имела какой‑то особенный смысл. Ведь он чувствовал себя, общаясь с ней, как за каменной стеной, за которой ему можно было как‑то спрятаться, укрыться. У меня с ним был как‑то об этом разговор и, кстати, очень серьёзный. Ведь он страшно боялся этой действительности и всё время был как бы начеку. Он боялся, что его могут посадить принудительно в дурдом, постоянно был в ужасе от вытрезвителя. В конце концов, он научился как‑то лавировать, старался ездить всегда на такси, меньше находиться в общественных местах, где его могли взять. Был ли он в дурдоме? Я его об этом не спрашивал, но один раз он вроде бы там был и, кстати, навещали его там Оксана Михайловна и Костаки. Но это были доброжелатели, которые понимали, что ему надо, в конце концов, подлечиться. Вот подлечится – и станет совершенно гениальным человеком. Не пить ему было, конечно, очень трудно, разве что при каких‑то невероятных обстоятельствах. Но однажды он мне сказал, держа руку около сердца: «Старичок, мне надо бы прекратить выпивать». – «А что случилось?» – спросил я. «Да вот сердце что‑то болит. Но знаешь, я стал размышлять – вот брошу пить, стану очень здоровым. Но здоровыми, старик, могут быть только футболисты». Говорил он всё это не в шутку, а совершенно серьёзно – здоровыми могут быть только футболисты. Это был 1984 год. Уже после смерти Зверева я решил сфотографировать его комнату. Ту самую «гибловскую» комнату, в которой он провёл последние часы своей жизни. Я просил знакомых, которые бывали там, ничего не трогать, чтобы фотографии эти были как можно более документальными. Когда же я пришёл туда, то был просто поражён. Я увидел, что всё в квартире было переставлено, перевёрнуто, даже кровать была подвинута. Вот такое состояние – буквально обыска. И всё это делали близкие для него люди. Я не буду их называть – ни их фамилии, ни их имена. Дело не в этом. Все, кто орудовал там, сами поймут, о ком идёт речь. Что они искали? Даже не хочу вникать в это. Искали, наверное, картины, искали всё то, что в будущем обернётся в хорошие деньги… Зверева не стало 9 декабря 1986 года. Ему сделалось плохо в своей квартире в Свиблово, где находиться он так не любил, и которое так пророчески, как оказалось, называл «Гиблово». В больнице, куда его отвезли, мы узнали – состояние безнадёжное. Инсульт. Я помню его за день до смерти. Он был без сознания, не совсем ровно дышал. Но такой спокойный лежал, такой благодушный, как бы отдающийся. Первый раз можно было положить на него руку… И всё. На следующий день он скончался. Врач сказал: «Невероятный, конечно, был организм. Мозг его просто плавал в крови». Уход Зверева заставил нас думать о нём как‑то по другому. То, что умер большой художник, было ясно само собой. Прощаясь с ним, мы будто прощались с символом свободы. О его похоронах снят фильм, сделанный фотографом Сергеем Борисовым, абсолютно подлинный фильм. В нём видится состояние всех, кто со Зверевым прощался, кто его любил. А любили его не все. Не то чтобы не признавали, но, во всяком случае, не ставили так высоко, чтобы счесть для себя нужным прийти на похороны вот такого человека, такого художника.» |

|
|
ВЛАДИСЛАВ ШУМСКИЙ (1926—2000)
историк, политолог, писатель. В 1949 закончил МГИМО по специальности«история международных отношений», работал редактором ТАСС в Москве, референтом-переводчиком в Вене, корреспондентом в Бонне и Западном Берлине. С 1956 по 1976 работал гл. редактором Издательства международных отношений ГК Совмина СССР и старшим научным редактором издательства «Прогресс». Кандидат исторических наук, член Союза журналистов и Союза писателей России. Коллекционер работ А.Зверева, автор ряда статей и мемуаров о художнике. далее |
|
Историк, политолог, писатель. В 1949 закончил МГИМО по специальности «история международных отношений», работал редактором ТАСС в Москве, референтом-переводчиком в Вене, корреспондентом в Бонне и Западном Берлине. С 1956 по 1976 работал гл. редактором Издательства международных отношений ГК Совмина СССР и старшим научным редактором издательства «Прогресс». Кандидат исторических наук, член Союза журналистов и Союза писателей России. Коллекционер работ А.Зверева, автор ряда статей и мемуаров о художнике.
«Художник в своей жизни … Родился в 1931 году, 3 ноября, в Москве. Первое своё рисование, как помню, совершил в пятилетием возрасте. Девяти лет, перед войной, был зачислен в кружок рисования в пионерском лагере. Тот кружок рисования напоминает мне сон, «утренний туман». С началом войны, – продолжал художник, – рисованием не занимался. Жил в Москве. Шли бомбёжки. Потом мы эвакуировались в Тамбовскую губернию, в деревню Берёзовка Красивского района. Там была родина моего отца. Жили там с родителями – с матерью и отцом. Мать – Пелагея Никифоровна, отец – Тимофей Иванович. Мать – рабочая, прачка, отец был инвалидом первой группы с гражданской войны. В деревне прожили два года. Рисовать не удавалось. Уже тогда научился курить. Мать курильщиков звала «трубокурами». Но по‑настоящему к этому зелью я не привык. Видимо, потому что лёгкие были плохие, часто задыхался и кашлял. Отец же курил «по‑чёрному». «Козьи ножки» ему ловко накручивала мать, так как у отца одна рука была парализована. В деревне учился в школе, кончил два класса, в третьем остался на второй год. Плохо учился ещё и потому, что сверстники мои издевались надо мною. Я для них был белой вороной среди серой стаи. И не знаю – почему. Из‑за этого в школу не хотелось ходить. Жизни и остальному учился у отца. Он мне объяснял, откуда булки, плюшки‑сдобы берутся, как их зарабатывают. Многое виделось в природе, нас окружающей. Видел сугробы от метелей и буранов, видел ласточек на проводах столбов, видел половодье и бобров, видел лес, речку «Ворона», у которой некогда бывал атаман Антонов. Помню раков, которых привозили в Москву живьём в мешках и которые после их отвара становились красными, как пасхальные яйца от луковой шелухи. Многое видел я в разницах и в единстве между лугами и задами, между полем и лесом, между сухостью и дождём и т. д. Тамбовский чернозём богат. Когда шла «война народная, священная война», мы в Тамбовской области никогда так сильно не нуждались в еде, как во многих местах страны. Мы не голодали. В деревне что‑то нравилось, а что‑то нет. Много было приятного, но бывало и наоборот. Запомнил гул полей, когда речка насторожена перед разливом. Во время разлива рыбачили. С одним рыбаком подружился. Он меня не отталкивал. Но из меня рыбака не вышло, видно, не дано, хотя и хотелось. Я «состряпал» себе удочку, но хорошим уловом похвастаться не мог. Надо всё‑таки уметь. Я расстался с этим занятием, но в душе продолжаю любить рыбалку. Помню, юношей любил рисовать верхушки деревьев. Они у меня получались. Я их рисовал не как с натуры, а как бы изнутри, как бы я сам был в их серёдке, и оттуда видел их: от основания до кончиков ветвей. Теперь так не смогу. Для этого надо обладать особой энергией. Теперь её нет. Теперь и на дерево‑то не залезешь. – А не смог бы, – спрашиваю, – хоть как‑то показать, напомнить, как это было? – Смогу, но получится не то. Поэтому лучше не надо. Того уже не вернёшь. Такова жизнь. Но она щедра, она дает что‑то взамен, то, чего тогда, в юности, ещё не было. Помню, как мать ходила зимой в лес за хворостом, в мороз. Прихватывала с собой ведро, чтобы на обратном пути подбирать щурят, выбросившихся из проруби. Помню, болели глаза. Я много смотрел на потолок, а оттуда сыпалась извёстка. Долго лечился, ездил к врачам в Тамбов… В Москве снова стал учиться. Но снова плохо, неровно. Классная руководительница Мария Васильевна говорила, что это из‑за лености, из‑за постоянного желания ничего не делать. Бывали лишь случайные прорывы, как ветер при тихой погоде. Поэтому оценки «отлично» бывали в весьма ограниченном количестве. Всегда были пятёрки по немецкому. (Могу засвидетельствовать, как свободно знающий немецкий язык: Зверев прекрасно помнит всё по‑немецки, что приходилось ему изучать в школе или слышать за её пределами. Он любил этот язык, знал кое‑что наизусть, в частности, пословицы. – В. Ш.) Пятёрки ещё были по черчению, рисованию, иногда по поведению. Посредственно учился по литературе и русскому языку, по остальным предметам – плохо. В силу такого силуэта, мне долгое время не удавалось закончить седьмой класс. Закончил злосчастную семилетку в школе рабочей молодёжи, и то благодаря классной руководительнице, которая вела литературу, и которая иногда говорила, что я в литературе – не от мира сего, особый вроде. Иногда писал стихи. А в общем‑то, меня пожалели и вместо двоек поставили тройки: я наводил на учителей жалость своей общей бездарностью в учёбе. (Судя по всему, учёба в школе давалась Звереву не просто; видимо, поэтому во время споров он нередко говорил: «Прошу со мной не спорить, я всё‑таки окончил семь классов». – В. Ш.) – Потом, – говорит далее Зверев, – учился в художественном ремесленном училище. Ремеслуху закончил, когда мне уже было лет 17–18, и с хорошими оценками. На экзаменах мне дали самый высокий разряд – маляра‑альфрейщика. Это стенная живопись по сырой штукатурке. Потом всё это упразднили, нас не доучили на целый год. Все разбрелись, кто куда. Я устроился работать художником. Сначала в доме пионеров, потом в парке «Сокольники». Многого навидался. Однажды в доме пионеров, где я работал фактически истопником, устроили выставку художественного кружка. Выставил и я кое‑что. На выставке побывала делегация японцев. И надо же – они, не сговариваясь, оценили только мои вещи и тут же выразили желание их купить. Продать, конечно, не продали: закона такого у нас нет. Директриса испугалась чуть ли не до обморока: пришьют ещё что‑нибудь. Времена такие были. На следующий день меня уволили, не помню уж, под каким предлогом. Знающие люди мне потом говорили, что неправильно меня уволили, не по закону. Ну да Бог с ними! Какое это имеет значение… Потом павильон, где занимались рисованием, сгорел. Многое сгорело. Но я не переживал. И не из‑за того, что уволили. Нет. Уж слишком много у человечества всяких несчастий, чтобы досадовать по поводу всяких непредвиденных мелких случаев… В своё время я был призван в армию, во флот. Но вместо нескольких лет береговой обороны пробыл там всего семь месяцев. Уволили по болезни. (А дело заключалось, скорее всего, в том, что Зверев катастрофически не мог выполнять любые воинские приказы, начиная с того, что он без смеха не мог выполнять команду «смирно». – В. Ш.) Вернулся домой, – продолжает Зверев, – и обнаружил, что рисование моё, насчитывавшее несколько сотен единиц, сожжено братом. Когда стукнуло двадцать, я был поражён красотой одной дамы – не из Амстердама. Мне было грустно… Я хорохорился, чтобы выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Но судьба, в кою я, очевидно, никогда не верил, не совершила то чудо, о коем может только мечтать современный шизофреник. Этот диагноз – «шизофрения» – мне поставили врачи. Я тогда не понимал, что это такое, никогда этого слова раньше не слышал. Как‑то пришел к Ваське Ситникову и спрашиваю его, что такое шизофрения. Вдруг Васька налился гневом и замахнулся на меня какой‑то железякой. Я шарахнулся в угол. Оказывается, Васька сам был шизофреником, и он подумал, что я издеваюсь над ним. Когда выяснилось, что я спрашиваю всерьёз, Васька мне и объяснил, что такое шизофрения. А с любовью тоже не везло. Я знал знаменитого коллекционера Костаки. И даже хотел жениться на его дочери. Но Костаки сказал: «Толечка, ты – необыкновенный, ты – гениальный, в тебе масса плюсов, но ещё больше минусов, особенно для семейной жизни. Так что, Толечка, на нас не рассчитывай». Так я расстался с любовью, которая, может быть, всех заводит в тупик, после которого сам не сам. В общем, личного счастья не получилось, хотя я и стремился к этому. …Я рисовал по‑прежнему много, но несерьёзно, в силу той поверхностной серьёзности, которая меня и всех нас окружала. Надо было жить и выживать. Но мои замыслы выявили мои шпионы. (У Зверева была определённая мания преследования и, кстати, не без основания. – В. Ш.) Они устроили мне «тёмную», жестоко избили. И было это не раз. Мне тогда казалось, что с живописью в стране Советов надо прекратить. Думал – женюсь и уеду жить в Тамбовскую губернию, где когда‑то находился во время войны… Но увы! Я так и не добрался до этой «зоны смешанных лесов». Да, видно, оседлая жизнь не по мне. Предлагали мне уехать во Францию с помощью фиктивного брака. Но и это не по мне: всё‑таки я – русский. (Зверев здесь не раскрылся: он не уехал за границу прежде всего из‑за женщины, о которой будет сказано дальше. – В. Ш.) Зверев отрицательно относился к советской системе. Однажды мы с ним разговорились и затронули такую тему, как Советская власть. Зверев вспылил до крика и гнева в глазах: «Нет никакой Советской власти! Дай листок бумаги, и я напишу, давай, давай!» Я дал. И вот Зверев, видимо, впервые в жизни изложил своё кредо: «Советской власти не существует и не существовало. Её придумали „личности“ весьма сомнительные, бандитские и авантюрного порядка. Думать о существовании Советской власти обозначает заблуждение глубочайшего характера… Поэтому сообщаю: тот, кто говорит о так называемой Советской власти, ещё и ещё раз глубоко заблуждается». И далее Зверев добавил: «Советская власть – мистификационное понятие. Чтобы в нём разобраться, надо побывать в вытрезвителе: там обворовывают, кладут в обоссанную до тебя постель и больно избивают, калечат. И занимаются этим такие женщины здоровые, как лошади». Тем не менее, – продолжал Зверев, – живопись, рисование не прекращались. Но тут я должен заметить, что всё остальное настолько всем известно, настолько банально, что дальше ехать некуда. (Выражение – «дальше ехать некуда» – было одним из любимых у Зверева. – В. Ш.) По рисункам моим и картинам можно видеть и слышать меня. Зверев прекратил свой автобиографический рассказ и решил почитать некоторые свои стихи, коих им написано немало. Если бы их собрать (а такое намерение есть у одного из поклонников Зверева), то получился бы не один сборник зверевской поэзии. Из стихов мы узнаём, что Зверев был заядлым футбольным болельщиком «Спартака». Особенно он чтил великого английского форварда послевоенного времени Стэнли Метьюза и Фёдора Черенкова. Дальше он декламировал такое: «Я синие глаза люблю твои. А глаз куда ни кинь – повсюду ты. О, все цветы у красоты, у высоты высот, у гор… Там, где немыслим никогда индус Рабиндранат Тагор. И не гранит его хранит средь гор и горя, его единственно хранит исток с горы, с форелью споря. О горе – горе! О горе гор! И с гор родник из утомленья к счастью рвётся». Закончил он рассказ таким четверостишием: «А поэтому, став поэтом, шлю привет вам от чистой души, что хотела кормить вас котлетой где‑то в очень далёкой глуши!» И добавил: «Аминь. До свидания!» И подпись – АЗ и дата – 1981 год. То был как раз год его пятидесятилетия. Из того, что я запомнил о нем… По улицам Москвы бредет сутулящийся человек и носками обшарпанных ботинок бьёт то по попавшему под ногу камню, то по льдышке. Он идет шаркая и никого не замечая, никогда не оглядываясь. Он идёт туда, куда попросился, или туда, где его не ждут. Он бездомен, словно бродяга. Плохо одет, с чужого плеча. Если на нём рубашка, джемпер или фуфайка, то надеты они обязательно наизнанку. Так ему хотелось. Взлохмачен, борода – клочьями. У него не водилось расчёсок, а чужими он не пользовался по причине болезненно развитой брезгливости. В нём всё необычно: и походка, и манера держать голову – по‑птичьи втянув её в плечи, – и то, как он глядит на окружающее – как бы в отрешённости. Это и есть Анатолий Тимофеевич Зверев. Познакомился я с ним без малого лет двадцать назад через художника А. Степанова в его мастерской на Беговой улице. Зверев сидел за столом, как бы нахохлившись и опёршись на него локтями. С лица его не сходило подобие виноватой улыбки. Хозяин мастерской показал мне некоторые работы Зверева, висевшие на стенах. Моя влюблённость в художника возникла сразу же, буквально с первого взгляда. Я тут же предложил А. Степанову (картины были подарены Зверевым ему) продать их мне. Тот довольно охотно уступил, взяв за них «по‑божески» (по тем временам). Вообще надо сказать, что при жизни Зверева за его вещи платили неизмеримо меньше того, что они стоили на самом деле. Художники, резко уступающие Звереву в таланте, ставили свои вещи во много, в десятки раз дороже зверевских. Объяснялось это тем, что Зверев мог создать картину в вашем присутствии и попросить (именно попросить) за неё «четвертинку», а то и того меньше. Где такое ещё встретишь? Но всё это отрицательно влияло на коммерческую сторону творчества Зверева. Как‑то я сказал ему: «Толя, твои вещи стоят гораздо дороже того, что за них дают. Что касается меня, то я могу исходить только из своих финансовых возможностей, а они невелики. Поэтому решай сам». «Ладно, ладно, – сказал Зверев, – сочтёмся. Я тебе прощаю. Дашь, сколько сможешь». Конечно, на этом можно было спекулировать, что некоторые и делали: покупали дёшево, а потом дорого продавали. Но были и те, кто помогал Звереву, и если сами не покупали по высоким ценам (Зверев мог и запросто дарить), то содействовали ему, чтобы реализовать картины по более или менее достойным ценам. Таковым был известный художник и друг Зверева Владимир Немухин. Надо признать, что этот человек, всегда и неизменно искренно высоко ценивший Зверева, много сделал для его популяризации и утверждения в числе наиболее талантливых художников России и современности. Без таких, как Немухин, Звереву пришлось бы совсем неважно. Картины, портреты Зверева, когда он их писал, многим казались даже несуразицей. А после, видя их раз от раза, люди тянулись к ним. Как любое истинное искусство, вещи Зверева притягивают. Тот же, кто их не принимает (а такие тоже есть), – это люди, которые обойдены судьбой в том смысле, что они вообще не видят прекрасного. Не трудом, не вымучиванием, не количественными слагаемыми берёт за душу Зверев, а вспышками и порывами видения, озарения. Талант Зверева импульсивен. Он всегда хотел писать, никогда не отказывался. Писал совсем не по канонам, быстро, успевая за один присест создать три, четыре, а то и пять картин. Максимальная продолжительность его работы над вещью не превышала 30–40 минут. Но это вовсе не значит, что только за столь «долгий» срок он создавал нечто лучшее. Нет. Лучшие его вещи (из портретов, пейзажей и тем более рисунков) есть и среди тех, на которые уходило минут десять‑пятнадцать, а то и меньше. Прежде чем создать портрет, Зверев обычно говорил: «Давай, детуля, увековечу». Вроде бы шутка, а с долей правды. Уникальный характер Зверева создал художника необузданного чувства, которое он, однако, выражает с неповторимой экономностью. Буйство чувств и чувство меры – эта черта свойственна Звереву, как никакому другому художнику. Думаю, что в лаконизме Звереву нет равных. Зверев в совершенстве владеет методом кажущейся незавершённости, по поводу чего «непосвящённые» (в том числе и среди известных художников и искусствоведов) порой не скупятся на нелестные эпитеты. Но в этой мнимой незавершённости и кроется один из секретов красоты, которым в полной мере владеет Зверев. Это направление в зверевском творчестве высоко оценил сам Пикассо, сказавший, что народ, имеющий таких художников, как Зверев, не нуждается в том, чтобы искать «законодателей» изобразительного искусства за пределами страны. Говорил о нём и Фальк: «Каждый взмах его кисти – сокровище. Художники такого масштаба рождаются раз в столетие». Зверева любят и ценят за то, что он абсолютно неспособен сфальшивить, быть хоть в малейшей степени измысливаемым. Бездонная искренность – это естественное состояние Зверева, – независимо от того, что совершается вокруг – кутеж или война. Он, подобно Есенину в поэзии, источал художничество. Есть художники вторичные, рассудочные, претенциозные. Зверев всегда первичен, как солнце, как море, как дождь, а то и как ураган. И к нему нельзя быть равнодушным: либо его любят, либо отвергают. Некоторые считают Зверева «гениальным люмпеном». Относительно «люмпена» я бы поостерёгся. Да, по образу жизни кое‑что сходно было, но не душа. Это был неповторимый художник, творивший с самых ранних лет жизни и вплоть до самых её последних дней. Коллекционеры подсчитали, что всего Зверев создал более 30 тысяч единиц. Не многовато ли для «люмпена»? Живописную манеру Зверева определяют как «вдохновенный экспромт». С этим можно согласиться, но я бы определил её ещё как «магический реализм». Однажды один из разбогатевших художников был в гостях у Костаки, который «открыл» Зверева, во всяком случае для Запада, где позднее появились серьёзные исследования, в которых Звереву неизменно отводилось значительное место. Одно из них – «Неофициальное искусство в Советском Союзе» Игоря Голомштока и Александра Глейзера, вышедшее в Лондоне ещё в 1977 году. Тот богатый художник, увидев у Костаки работы Зверева, сказал: «А что это за мазня у вас? Я такое могу делать по пятнадцать штук за полчаса. Это даже не полуфабрикат». – Голубчик, – сказал Костаки, – ловлю вас на слове. Вот вам лучшие английские краски, кисти, бумага. Пожалуйста, покажите. Но договоримся о пари: если у вас получится, то можете забрать любую из икон в моей коллекции, если же не получится, то публично признаете своё поражение. – Хорошо, согласен, – обрадованно сказал художник (кстати, тоже собирающий иконы) и начал работать «под Зверева». Он совершил не менее семи попыток, и ни одна не удалась. – Я сегодня не в форме, – буркнул низвергатель Зверева. – Голубчик, – сказал Костаки, – вы всегда будете не в форме. Вы проиграли пари… Вы не разглядели замечательного художника, слава которого ещё впереди. Ай‑я‑яй… О художниках вышеописанного толка Зверев говорил: «Они все обманщики и, сами того не ведая, гибнут в собственном обмане». Зверев хорошо относился к тем художникам, которые были по‑настоящему талантливы и в чём‑то своей натурой напоминали самого его. Одним из таких был уже упомянутый Василий Ситников. В нём Зверев особенно ценил его личностные особенности. Зверев был крайне ревнивым. Уже упоминалось о женщине, которая сыграла в его жизни важную и существенную роль. Речь идёт о Ксении Михайловне Асеевой, вдове известного поэта Н. Асеева. Сейчас её тоже нет в живых. Она была на тридцать с лишним лет старше Зверева. Между тем Зверев её любил, был привязан к ней и если не уехал за рубеж (а предложения на этот счёт, как мы видели, были), то прежде всего из‑за неё. – Толя, любить вас я не могу, а быть рядом – могу, – сказала Асеева Звереву. Больше всего Зверев любил быть с нею один на один. Тогда он пел, дирижировал музыкой, передаваемой по радио, танцевал, ликовал. Асеева была человеком высшей культуры, огромной порядочности, крайне воспитанной, прекрасно понимающей, что есть действительно новое и талантливое (отсюда и привязанность к Звереву), лично знала Есенина, Маяковского, Велимира Хлебникова и многих других выдающихся представителей русской культуры. Она принимала их у себя дома, хорошо музицировала на рояле, исполняя Рахманинова, Мусоргского, Чайковского… Зверева тянуло к людям чистым, не испорченным расчётом и конъюнктурой, искренним и откровенным, надёжным. Именно такой и была Асеева. Однажды, а дело было на даче, к ней пришла женщина, которая по долгу службы интересовалась литературным наследием поэта Асеева. Они разговорились, а потом Асеева играла. Когда женщина ушла, со второго этажа спустился Зверев и в припадке ревности ударил Асееву по щеке. Он кричал: «Почему ты играла дважды?! Ты отняла у меня моё время!» Никому Зверев не сделал ничего плохого, разве только себе, своему здоровью, никого не обидел, не обездолил, ни у кого ничего не отнял и не взял. По существу, он только отдавал – и отдавал то, что не поддаётся измерению денежными эквивалентами. Он никому и ничего не задолжал, а ему должны (и очень много) сотни и даже тысячи людей, ибо их обогатил он и в прямом, и в переносном смысле слова. Он отдал то, что лучше всего, и так много, что нет для этого материальных вместилищ. Зверев отдавал не что‑то, он отдавал себя – целиком, без остатка. Многие из тех, особенно владеющие его картинами, безмерно им одарены – с такой щедростью, с такой широтой, на какие они, судя по всему, неспособны. За всю свою уже немалую жизнь я не встречал человека более щедрого, чем Анатолий Тимофеевич Зверев. Он всегда отдавал нуждавшимся и последний кусок хлеба, и последний глоток вина, и последнюю рубашку. Как‑то я сказал Звереву, что у него интересная рубашка. Он тут же, ни слова не говоря, стал снимать её. Так он мог отдать любую вещь любому человеку: сразу, безо всяких сожалений и оговорок. И здесь он был в полном смысле евангельским человеком. Как‑то Зверев написал для Немухина в подарок «Натюрморт с омаром», который демонстрируется практически на всех выставках. Картина исключительно талантлива. Она неудержимо привлекает любого посетителя. Не случайно ей в Книгах отзывов дают самые высокие оценки, вплоть до «гениально». Прошло некоторое время, и Немухину предложили за неё большую сумму. Встретив после этого Зверева, Немухин стоял перед ним в смущении, не зная, как быть. – Что ты такой кислый? – спросил Зверев. Немухин честно сказал, о чём идёт речь, и добавил, что деньги будут пополам. – Ну и что? – сказал Зверев. – Деньги‑то не лишние, – сказал Немухин, – да продавать так не хочется. Вещь‑то вершинная. – Ну и пошли всех куда подальше, – сказал Зверев, у которого в кармане не было ни гроша. И снова неподдельный детский смех. Бывало и так. Костаки устроил Звереву сеанс среди людей дипкорпуса. Таким путём он помогал Звереву заработать. Обычно речь шла о трёх вещах – масло, акварель и рисунок. Получил Зверев тогда две тысячи рублей – деньги по тем временам немалые. Выпил со своими собутыльниками. Забрали в вытрезвитель. Избили, всё отняли до копейки. На следующий день «расщедрились» и дали на троллейбус, а через пару дней прислали повестку на 25 рублей за суточное содержание в вытрезвителе. Когда Зверева оттуда выдворяли, он о деньгах и не заикнулся. Этот рассказ вызвал во мне взрыв возмущения. А Зверев говорит: «Детуль, не серчай, так всегда было и так будет». И ни малейшего сожаления о случившемся. И стало ясным, что сколько бы денег у Зверева ни было, наутро, после выпивок и вытрезвителей, ничего не остаётся. Деньги вообще не шевелили его душу. По существу Зверев был верующим человеком. Он грешил, как и все мы, но, в отличие от нас, в его грехах не было злокачественности, ибо душа его была бесконечно добра к людям, к их делам. Он, например, никогда не унизил ни одного художника. И в то же время я слышал так много хулы от других художников, грязно поносивших друг друга, в том числе и Зверева! Иногда казалось, что этот цех культуры просто завшивлен недоброжелательством. И только Зверев не дал ходу такой оценке. Он нередко проявлял великую терпимость по отношению к тем, кого Пушкин называл «падшими» и по отношению к которым призывал к милости. Падшие ведь часто не во всём виноваты. И сегодня перестроечное государство целенаправленно работает на увеличение сонма падших. Лет пятнадцать тому назад я спросил, как он отнёсся бы к тому, если бы его картины поместили в Третьяковской галерее. Зверев ответил: «Туда меня смог бы поставить только сам Третьяков. Но его нет. Поэтому не могу согласиться быть сегодня там через людей, ничего общего с Третьяковым не имеющих. Те, кто выставлен в Третьяковской галерее после её основателя, это – не художники, это в большинстве своём – враги живописи, её предатели. В новое здание Третьяковки тем более не пойду, так как это было бы предательством по отношению к себе». Предательством он считал, судя по всему, приобщение к соцреализму. Он говорил: «Социалистическая живопись потому погибла, что её подчинили политике». Как‑то за ним гнался милиционер. Зверев бежал и увидел, как ребята на пустыре играют в футбол. Тогда он подбежал к вратарю, сказав: «Дай я постою в воротах». Мальчик, опешив, отошёл, а Зверев сделал вратарскую стойку. Милиционер ничего не заметил и проследовал дальше. Зверев же похлопал по кепке «настоящего» вратаря и пошёл в другую сторону. Детскость и непосредственность Зверева всегда были обаятельны. Когда его ожидало что‑то приятное и редко ему доступное, он не умел скрыть радости. Однажды летом мы пригласили его поехать с нами на дачу. Зверев очень обрадовался: глаза засверкали, он верещал, ходил вприпрыжку, стал очень послушным. Жена моя, Галина Ивановна, предложила ему сменить рубашку на более свежую и причесаться. Зверев тут же прервал своё писание (он тогда до самозабвения писал стихи), молча подошёл к жене и покорно встал перед ней. Он поднял руки, дал снять с себя рубашку, поворачивался так, чтобы ей было удобнее его одевать. Потом пытался ухватить все сумки и, по‑детски мило улыбаясь, чуть испуганно оглядываясь (не дай Бог, раздумают поехать), торопливо пошёл клифту. И я завидовал Звереву, что он, фактически брошенный судьбой на произвол, сохранил в себе столько обаяния детскости, завидовал и ещё больше любил его за это. У нас была собака по кличке Дики, тёмно‑коричневая сука – спаниель. Мне думается, что больше всех она любила Зверева. Не было предела её радости, когда он приходил. Она заранее его чуяла и начинала возбуждённо скулить, показывая нам, что за дверью – он. Откройте, мол, скорее! Он с ней часто гулял, на что Дики шла особенно охотно. Они были верными друзьями. Рисунки зверей ему особенно удавались. И вот такого человека много и жестоко били. А получалось так. У Зверева нередко бывали деньги от заказчиков, во всяком случае, на выпивку ему хватало. Один он не пил, его тянуло к людям. Часто среди них бывали художники. Уступая Звереву в таланте, они никак не могли этого осознать. Напившись, они говорили ему: «Как художник, ты ничего собой не представляешь, а платят тебе больше, чем нам. Где же справедливость?» После этого страсти нередко накалялись, и дело доходило до побоев, особенно тогда, когда Зверев «огрызался». Били беспощадно. В этих случаях Зверев, инстинктивно защищаясь, прежде всего прятал между ног правую руку. Левая давно уже была искалечена, она не сгибалась в локте. «Если без правой руки, – говорил Зверев, – то, считай, без хлеба». Озверевшие художники допускали двойную жестокость: у избитого Зверева они отбирали все деньги и продолжали на них попойку. Зверев не раз испытывал такое и, тем не менее, шёл на это. «А куда денешься? – говорил он. – Такая вот жизнь». Как‑то в разговоре со Зверевым я во время рассказа непроизвольно сделал вид человека, замахнувшегося, чтобы ударить. И вдруг Зверев инстинктивно отпрянул, закрыв лицо руками, вжался в угол. Сидевший передо мною гигант искусства выглядел, как беззащитное и забитое дитя. До щемоты в сердце, до слёз стало его жалко. Его отовсюду гонят, принимая за бродягу и тунеядца из‑за плохой одежды и неухоженного вида. Часто не пускали в метро. Поэтому Зверев обычно брал такси, за которое всегда заранее много переплачивал, чтобы таксисты соглашались подвести. А было и так. В винном магазине детина‑продавец вырвал у Зверева чек на 25 рублей, а его самого выкинул на улицу, как пьяного. Зверев больно ударился. – Чек‑то взял? – спросил кто‑то. – Да что ты, разве можно… Изуродуют. А чек кто‑то подобрал. Помню и такое. Мы хотели с ним взять вина, но магазины были закрыты на обед. Куда‑то ехать не хотелось. Мы зашли в находившийся вблизи ресторан. Видя совсем непрезентабельную одежду Зверева, служители ресторана посмотрели на него, как на утратившего управление нищего. А Зверев достал сторублёвую купюру, взял бутыль французского «Наполеона» и с поклоном удалился, не взяв сдачи. Несколько раз приходилось видеть Зверева заболевшим. Однажды он еле добрался до нас. Дома никого не было. Зверев лёг на лавку во дворе и несколько часов ждал нас. Я обнаружил его лежащим на лавке, когда вышел погулять с собакой, той самой Дики. Она учуяла Зверева и подбежала к нему, от радости быстро крутя обрубком хвоста. Меня поразила бледность Зверева, испарина на лбу. Он почти не говорил и только едва заметными кивками отвечал на вопросы. – Что, плохо? Кивок. – Пойдем домой… Кивок. Зверев никогда не жаловался, не проявлял активно того, что ему плохо. Врачей он вообще не признавал, боялся их и в принципе не верил им. Дома спрашиваю, что болит. Ответ шёпотом: «Всё болит, руки, ноги, грудь, тошнит…» И смеётся, качается и смеётся. Уже говорилось о Звереве как об оригинальном и незаурядном мыслителе. Он, кстати, немало писал и высказывался об искусстве живописи. И кое‑что из этого сохранилось, судя по всему, только у меня. Вот некоторые из его суждений: «Живопись есть совокупность света и тени, взаимодействующих с цветом, есть сложение цветовой гаммы. Из этого прозаического и получается то, что признают за чудо Божье. Родилась же матушка‑живопись из окружающих человека красок природы, особенно из радуги…» «Мы уходим в вечность, в пучину волн, вод и пены. Так пропадает корабль нашей жизни и всегда в неизвестном для нас направлении, если, конечно же, исключить то направление живописи, которое придумано нами для того, чтобы как‑то сгладить свою беспомощность…» «О живописи едва ли стоит говорить самим художникам, ибо, как сказал Леонардо да Винчи, живопись сама за себя скажет. Но что делать! Мы все в той или иной степени подвержены демагогии, которая впоследствии становится для нас теорией…» «Человечество вечно суетится, пока у него есть время… Но иногда кому‑то из нас удаётся остановить наше неугомонное и ненасытное в делах суеты внимание. И тогда мы оказываемся во власти живописи. Она прекрасна, как сказочная принцесса… через сновидения, в коих часто неимущий получает во сто крат больше имущего… А после всё это воспринимается лично самим, но уже ничтожно по сравнению с подобными сновидениями, словно во мраке роковой неизбежности и безумия». «Кисть в руках художника должна быть такой же послушной, как лошадь у хорошего извозчика» (вспомним шедшую ещё из раннего детства Зверева любовь к лошадям). «Истинное искусство должно быть свободным, хотя это и очень трудно, потому что жизнь скованна…» На мой взгляд, Зверев был самым свободолюбивым человеком на земле. Он ценил свободу больше всего на свете и никогда ей не изменял, ни к кому и ни к чему не приспосабливаясь в смысле унижения и утраты хоть капли свободы. Отсюда и его образ жизни, в котором царила свобода и никакого комфорта. Быт, удобства не занимали в жизни Зверева даже последнего места – они не занимали никакого. Насколько понимаю, наступили времена, когда многие у нас в стране открыли и открывают для себя художника А. Т. Зверева. Это и есть культурное обогащение. Зверев вошёл в историю культуры, то есть в историю вообще, через её парадные двери – и стал художником с мировым признанием. И если его имени ещё нет в наших справочных изданиях, вход в которые открывает не всегда талант, а качества иные, более низкие (например, звание, должность, связи, а то и просто подкуп в той или иной форме), то оно давно занимает своё место в крупнейших энциклопедиях мира. Выставки Зверева имели место в ведущих галереях Франции, ФРГ, США, Дании, Швейцарии, Австрии, Англии, Италии. Всего же в странах Запада он выставлялся десятки раз. Это в несколько раз больше, чем в Советском Союзе. Как всё‑таки трудно пробиваться в нынешней России русским дарованиям! Сколько раз уже бывало, что к выдающимся, даже гениальным русским людям слава шла не столько с родины, сколько извне. Крупный, российский по происхождению и живший во Франции искусствовед В. Вейдле, посетив выставку Зверева в 1965 году в Париже, в книге посетителей написал: «Нет, слава Богу, русская живопись не умерла». Прожил А. Т. Зверев 55 лет. Он скончался при не совсем ясных обстоятельствах в 1986 году в Москве, которую он так любил и которая без него немыслима." |

|
|
ДМИТРИЙ ПЛАВИНСКИЙ (1937-2012)
художник, видный представитель неофициального искусства.Был близок к кругу художников-лианозовцев, с конца 1950-х годов участвовал в квартирных выставках, в важнейших экспозициях нон-конформистов. С 1991 по 2004 год жил и плодотворно работал в Нью-Йорке, пополнив своими произведениями фонды крупнейших музеев, затем вновь вернулся в Москву. Будучи одним из самых близких друзей Анатолия Зверева, Дмитрий Плавинский всегда принимал активное участие в его судьбе как человека и художника. далее |
|
Художник, видный представитель неофициального искусства. Был близок к кругу художников-лианозовцев, с конца 1950-х годов участвовал в квартирных выставках, в важнейших экспозициях нон-конформистов. С 1991 по 2004 год жил и плодотворно работал в Нью-Йорке, пополнив своими произведениями фонды крупнейших музеев, затем вновь вернулся в Москву. Будучи одним из самых близких друзей Анатолия Зверева, Дмитрий Плавинский всегда принимал активное участие в его судьбе как человека и художника.
"В течение зимы подыскал домик на Салотопке – так называлось местечко в Тарусе, и поехал в Москву к матери вышибать деньги, скопленные для меня, но которые она решила положить в сберкассу до моего тридцатилетия. Со скандалом изъял сумму, едва покрывающую половину стоимости дома в Тарусе. Зашел к Нине Андреевне Стивенс, ранее покупавшей мои работы. Она забила мой рюкзак заморскими продуктами, бутылкой джина, и мы простились. Прихватив с собой Зверева и Харитонова с красками, бумагой и холстами, мы отправились в Тарусу. С хозяином составили документ, по которому я обязался выплатить оставшуюся сумму через полгода. Наконец, у меня в кармане ключ от собственного дома. Зверев должен был сделать в кратчайший срок большое количество работ для персоналки в Париже. Её устраивал французский дирижёр, выходец из России Игорь Маркевич. Анатолий работал стремительно. Вооружившись бритвенным помазком, столовым ножом, гуашью и акварелью, напевая для ритма, перефразируя Евтушенко: «Хотят ли русские войны – спросите вы у сатаны», – он бросался на лист бумаги с пол‑литровой банкой, обливал бумагу, пол, стулья грязной водой, швырял в лужу банки гуаши, размазывал тряпкой, а то и ботинками весь этот цветовой кошмар, шлёпал по нему помазком, проводил ножом две‑три линии, и на глазах возникал душистый букет сирени, или лицо старухи, мелькнувшее за окном. Очень часто процесс создания превосходил результат. Вся троица – Зверев, Харитонов и я – была едва ли совместима, настолько каждый не походил на другого. Зверев Харитонова считал глубоким шизофреником, которому не поможет ни один дурдом столицы. Харитонов же был уверен, что за маской Зверева, «грязного, полупьяного идиота», скрывается король параноиков. Ко мне относились с крайним подозрением. Почему Плавинский так часто и внезапно меняет манеру и темы картин? Да не потому ли, что пытается замести следы преступления? Но невзирая ни на что, мы много работали. В печке трещали дрова. Продуктов, которыми нас снабдили Стивенс и Костаки, нам хватило надолго. На полках стояли большие банки сухого молока войск НАТО, консервированное датское масло, мучные изделия из Италии, английский чай, американские сигареты, джин, виски. Единственно, за русским хлебом приходилось спускаться на улицу Ленина. Весна. С радостью отходишь от холодов, сугробов, метелей. Заморские продукты подходят к концу. Чтобы выжить, надо сажать огород. Земля жирная, участок большой. Он нас с лихвой прокормит. У соседей закупили картошку. Часть пустили на жратву. Чистить её Зверев никому не доверял. Делал он это виртуозно. Начинал сверху и одной кожурой, нигде не прерывая, одинаковой толщины, какова бы форма ни была, спиралью доходил до низа. Очистка походила на пространственное построение сфер бельгийца Эшера. Пока он чистил картофель, я взял лопату, приготовил землю для посадки. Зашёл за ведром картофеля. – Ты куда? – Сажать. – Что, целиком? Дурак, такой продукт в земле гноить! – Старик, да я для экономии разрублю её пополам. – Ты что, не понимаешь? Главное – глазок. Из него в рост ботва идёт. Смотри, сколько глазков в шелухе, сажай только шелуху – сердцевину в кастрюлю. – Пошел на х…! Вот тебе кусок твоего участка и делай на нём, что хочешь. Я буду сажать, как всегда. Соседи – куркули, окна домов которых были наглухо задёрнуты тюлевыми занавесками, с ненавистью следили за нами. Мол, московское дурачьё то на улице целыми днями играет в футбол, то к ним в калитку молотят самые позорные тарусские девки, то нарисовали на воротах круги и с утра до ночи швыряют в них ржавый рашпиль. Эх, такой дом пропадает! Но то, что они увидели сейчас, добило их окончательно. На поле с огромной кастрюлей, полной шелухи, гордо вышел Зверев. Он категорически отрицал, что поле надо вскапывать – мол земля и так примет. Широким жестом сеятеля, не сходя с места, веером разметал «глазки», затем, в дьявольской чечётке, прикаблучивая сложным лабиринтом чечёточного хода, пустился по полю. «Тата‑тат‑та‑та‑тра‑та‑та‑та‑тат‑та‑та». Точно попадая каблуком в каждую шелушинку, шёл он, подбоченясь, по гати, и из‑под ног его со свистом вылетали комья жирной весенней земли. Отбросив лопату, я хохотал до упаду. За тюлями окаменело застыли деревянные физиономии наших любезных соседей. Зверев всегда был абсурден до изнеможения. Как‑то в Третьяковке, подойдя к полусонной смотрительнице зала, вежливо, вполголоса спросил: «Дорогая, вы не подскажете, где здесь зал Рембрандта?» – Тридцать седьмой, – не запнувшись, отвечает она. – Как вы думаете, – это уже в ГМИИ, – под каким номером у вас зал Репина? – Семьдесят два. – Очень вам благодарен. Свою жену Люсю с двумя детьми Зверев запирал, уходя в Сокольнический парк играть в шашки, на амбарный висячий замок. Перед этим оставлял ей краски и стопу бумаги – чтобы к вечеру всё было нарисовано. У Люси тогда был период кипящих чайников. Посередине листа изображен чайник с кривой ручкой. Чтобы создать эффект кипения, Люся обмакивала пятерню в разные краски и шлёпала ею по чайнику. И так из листа в лист – бесконечная серия. Зверев приходил вечером и на всех чайниках ставил свое знаменитое «АЗ». Вся пачища чайников предлагалась Игорю Маркевичу для Парижа. – Старик, ты себе могилу роешь. Это же мрак, – говорил я ему. Начинались долгие витиеватые рассуждения, что «муж и жена – одна сатана», «плоть от плоти – кость от кости» и т. д. Когда впоследствии Зверев получил фотографии парижской экспозиции, он крайне опечалился. Люсины чайники занимали центральную стену выставки. – Ты же сам говорил: «плоть от плоти, кость от кости», что «сатана одна». – Философски это так и есть. Но неужели французы в живописи ничего не понимают? С Игорем Маркевичем я встретился впервые у Костаки. Это был худой нервический человек, по‑своему остро воспринимающий всё новое. Мы разговорились. – Ваш Стравинский уступает Шенбергу в решении кардинальных проблем музыки. Будущее за Шенбергом, а не за Стравинским. – Стравинский был «наш» до оперы «Царь Эдип», его дальнейшее творчество принадлежит всем, – ответил я. Георгий Дионисович показал Маркевичу графическую серию Зверева к «Золотому ослу» Апулея. Александр Александрович Румнев дал эту книгу Толе и буквально приказал сделать рисунки на эту тему. У иностранцев они имели бешеный успех. «Эротик!» – в восторге кричали они. Посмотрев всю серию, Маркевич пришёл в экстатическое состояние. – Георгий Дионисович, нельзя ли приобрести какой‑нибудь рисунок из «Золотого осла»? – Вы режете по живому. Но для вас можно, – ответил Костаки, – только это будет стоить очень дорого. Очевидно, тогда и возникла у Маркевича идея парижской выставки Зверева. «Посадив» картошку, вернулись домой. С чердака спустился Харитонов. Он рисовал сверху тарусское кладбище, где между крашеных железных крестов в фантастическом венце ступает белый ангел. С печалью и удовольствием допили последнюю бутылку виски. – Давайте пройдёмся. Погода прекрасная, что дымить в душной комнате. – Куда? – Да куда глаза глядят. Зашли к Акимычу. Там его жена Валентина Георгиевна, Борух, Эдик и их знакомый Володя Стеценко, редактор журнала «Вокруг света», в дыму и чаду о чём‑то оживлённо спорили. Валентина осталась дома, все же остальные решили пройтись по берегу Оки. Серебристо‑сиреневое весеннее облако объяло нас, холмы, деревья мелодической гармонией темперы Борисова‑Мусатова. Недвижной фольгой Ока сворачивала за дальние купы вётел. На душе было легко и радостно. Казалось, так будет вечно. Тогда я не предполагал, что почти через двадцать пять лет мне придётся горбиться над эскизами креста на могилу Зверева. Сейчас же он, как котёнок с клубком ниток, выделывал уморительные фортели, играя в футбол консервной банкой. Позади ребята о чём‑то переговаривались. Навстречу шли наши «позорные подруги». Зверев, как бы не замечая их, опасливо склонился над кривой сухой веткой. Всё его внимание было поглощено ею. Зверев осторожно протянул к ветке руку, затем резко её отдёрнул, подпрыгнул, крикнул: «Ай! – и подул на пальчик. – Змея!» Девчата завизжали и бросились врассыпную. Эдик рассмеялся. На бледно‑изумрудном небе проступил лунный серп. Бросив футбол и «змею», Зверев рассуждает о поэзии. – Знаешь, почему Пушкин был посредственным поэтом? – Ну почему же? – А потому, что ему не приходило в голову, что поэзия должна быть неожиданной. – То есть? – Да вот, хотя бы: «Мороз и солнце, день чудесный!». Когда мороз и солнце, и так понятно, что день чудесный, а надо бы: «Мороз и солнце, дерутся два японца». Вот это – настоящая поэзия. Зная, что его кумир – Лермонтов, подначиваю: – А у Лермонтова в «Парусе» что за ерунда – «под ним… над ним… а он». Мрак. – Ладно, ладно, – недовольно ворчит Зверев, – Лермонтова не трогай. Мне Костаки однажды сказал: «Знаешь, Толечка, ты пишешь не красками, а собственной кровью». Вот и получается, у нас донары, а у них Боннары. Зверев, рано потерявший отца, перенёс неудовлетворённые сыновьи чувства на Георгия Дионисовича. Костаки, со своей стороны, по‑отечески относился к Толе. Но глубокие отношения, как правило, ревнивы и тираничны. Георгий Дионисович не терпел соперничества. Всячески прославляя Зверева, он держал его в тени, препятствуя возможной связи Зверева с внешним миром. Но, как говорится, кота в мешке не утаишь. Таинственность местонахождения Зверева только подстегнула любопытство поклонников его творчества, и их стараниями Зверев, наконец, был извлечён из угла Сокольнической квартиры на свет Божий. Костаки понял – его абсолютная монополия на Зверева кончилась. Это было равносильно предательству. В 64‑м году он вызовет Зверева на конфиденциальный разговор и предложит ему как можно быстрее скончаться. «Толя, всё, что ты мог создать в искусстве, ты создал. Дальнейшая твоя жизнь бессмысленна и позорна. „Я тебя породил, я тебя и убью“, – назидательно добавил Георгий Дионисович, – и учти, голубчик, ты ссышь против ветра», – раздраженно закончил Костаки разговор, имея в виду продажу Зверевым его же собственных работ «налево», то есть не ему, Костаки. И как страстная любовь неожиданно кончается душевным оледенением с тем, чтобы снова растопить застылую душу свою в лучах восходящего светила, так и Костаки вдруг обретёт себя в страстном собирательстве искусства 20‑х годов, и прославит своё имя на весь мир. С этих пор он постепенно теряет интерес к современному русскому авангарду. Но никакие силы не смогли не только разорвать, но и омрачить трогательных сердечных отношений между Костаки и Зверевым. Их дружба длилась всю жизнь. – Давайте свернём к пробуждающемуся мальчику Матвеева. Подходим. Какие‑то ублюдки отбили ему нос. Тело юноши, объятое тёплой влагой весенних сумерек, вот‑вот шевельнётся, потянется, он раскроет глаза и узрит матовый мир, созданный для него Борисовым‑Мусатовым. Серп луны стал яснее и золотистее в изумрудном небе. Над Окой стелются косы тумана, мягко повторяя изгибы её течения. – Старик, мы приближаемся к дому отдыха. Я вспомнил, что на завтра у нас ни копейки на батон хлеба, – говорит Зверев. – Сейчас за десять минут я выиграю в шашки 13 копеек на батон. Он был страстным шашистом. – Шахматы я бы запретил Конституцией СССР. – Почему? – недоуменно спрашиваю я. – Да потому, что эта игра чрезвычайно опасна для здоровья. Заснёшь за доской – и о фигуру глаз выколешь. А над шашками заснёшь – в глазу ещё очко. Пройдя гуськом друг за другом по узкой тропинке, вьющейся по самому краю глубокого оврага, оказываемся на территории дома отдыха. В землю врыты столы, расчерченные на квадраты, на них – шашки величиной с трамвайное колесо. Зверева здесь знают и ждут. Сразу вокруг обступает толпа болельщиков. И игра начинается. По копейке. «За две могут статью пришить». В десять минут выигрывает на батон, и мы, не дожидаясь куда‑то исчезнувшего Боруха, решаем возвратиться домой. Пропустив вперед себя Эдика, Харитонова и Володю, мы со Зверевым поотстали и подошли к краю обрыва. Вдруг меня кто‑то сильно толкнул в спину. Едва не потеряв равновесие, обернулся, – два сопливых местных пижона прошли мимо нас. – Слушай, ты! Нельзя ли поосторожней? – крикнул я. Приведя себя в порядок, спускаемся по тропинке вниз к каменистому берегу Оки. Издалека до нас доносятся голоса товарищей. Пижоны нас поджидают. – Ты что‑то сказал? А ну, повтори! И один из них цепко хватает меня за руку. Так нагло себя вести, видя наш значительный перевес, странно. Я пытаюсь вырвать руку. В это время Зверев, стоящий за его спиной, вытянутой рукой описывает в воздухе круг, идущий по касательной к земле, и легко, как бы лаская, останавливает руку у уха моего противника. Словно в замедленной съёмке я наблюдаю, как постепенно ухо отделяется от головы, начинает падать и ложится, наливаясь кровью, на плечо алым погоном генерала. Парень разжал руки и, как маятник метронома, начал раскачиваться взад и вперёд. – Чем это он тебя? – забыв про всякую злобу, обращаюсь к «метроному». Едва шевеля губами, отвечает: «Не знаю…» Его товарищ, всё время стоявший рядом, пронзительно засвистел. – Бежим! – крикнул Зверев, и, медленно набирая скорость, вся наша компания побежала вверх по холмам. Вдалеке послышались топот и крики. Обернулись – человек десять‑пятнадцать с городошными битами в руках стремительно спускались с горы вниз. Мы резко прибавили ходу. Пробежали мимо Боруха, ведущего под руку девчонку с косичками. Удивленно посторонившись, вежливо пропустили нас вперёд. Холмы становятся всё круче. В висках молотом била горячая кровь. Глаза вылезли из орбит, пот градом катил по лицу, разъедая веки. Обращаюсь с мольбой к ногам: «Ну, бегите, бегите!» – и они, налитые ядом страха и ужаса, не бегут, а несутся. Если бы наше тяжёлое, хриплое, прерывистое дыхание записать на «Панасоник», создалось бы впечатление звукозаписи ритуального любовного экстаза племени «тумба‑юмба». Но, увы, нам было не до любви. Всё круче и круче вздымались холмы. В сумерках они напоминали мерцающий рельеф пейзажа Эль Греко «Буря над Толедо». Всё ближе и ближе глухой топот стада носорогов. – Ноги, ноги, возьмите себя в руки, и вы спасёте и себя и меня… Что нам спринтеры Сиэтла, бегущие по гаревой дорожке под рёв стотысячного стадиона! Истинные мировые рекорды скорости ставятся в одиночестве, душными майскими сумерками, где единственный молчаливый зритель – тонкий серп месяца. На голом холме торчит телеграфный столб. Я только теперь оценил полностью гипнотическую силу магии Харитонова. Он подбежал к столбу и слился с ним воедино. Носороги пронеслись мимо. Наш похоронный бег пролегал мимо матвеевского гранитного утопленника, антрацитово мерцающего в дрожащем свете Млечного Пути. С противоположного берега в торжественной тишине, пересекая воды Оки, неумолимо движется на нас ладья Харона. – Нет уж, к чертям, – ноги, словно спицы спортивного велосипеда, в своём мелькании исчезают совсем, и тело, как бы приподнятое над землёй, летит само по себе, её не касаясь. Тяжело дышит мне в спину Зверев. Впереди с Володей несётся Эдик Штейнберг. Зловещий топот носорогов вот‑вот настигнет нас. Цвет русского авангарда шестидесятых годов в сверхперенапряжении, обливаясь кровавым потом, вылетает, наконец, на плато, где начинается город Таруса. Первое здание на нашем пути – чернеющий огромный саркофаг школы. Мы круто заворачиваем во двор. Володя и Эдик проносятся в глубь двора, в один из тамбуров дальнего выхода, мы со Зверевым занимаем ближний. Прижавшись друг к другу, едва переводя дыхание, прячемся за стеной справа от проёма. Передо мной ультрамариновый прямоугольник ночного неба. Зловещим отточенным ятаганом повис над нами обоюдоострый серп луны. Вдруг прямоугольник мгновенно заполняется огнедышащей чернотой. Нам бы не дышать, но это сверх наших сил. Чернота расступилась и, едва не задевая нас, в тамбур полетели булыжники величиной с тыкву. То, что случилось в следующий миг, лежит вне области моего разума. Бесшумно, пользуясь непроглядной тьмой тамбура, я отошёл вглубь, к двери школы. Моё существо сжалось в точку. Вдруг я издал страшный животный крик и, как пантера, вытянув ноги перед собой, высоко прыгнул в зловещую черноту, никого не задев, вылетел во двор, и ноги понесли меня в город. Я обернулся назад – Зверева нет. Как же так? Я пробил коридор, неужели он не успел им воспользоваться и застрял там, в тамбуре? Так оно и оказалось. Вот что Зверев впоследствии рассказал мне: «Они ворвались и начали меня разворачивать лицом к себе. Я сопротивлялся, как мог. Тогда несколько человек так дёрнули мою левую руку, что выдернули её из плечевого сустава. Дальше пошли в ход биты. Правую руку я спрятал за спину для халтуры. Позже, в Склифе, рентген выявил три перелома левой руки и вывих плечевого сустава. Один из парней, расстелив передо мной носовой платок, аккуратно, чтобы не запачкать брюки, встал на колени и, примостившись поудобнее, начал зубами откусывать мне нос. От нестерпимой боли я заорал». На страшный крик прибежала соседка и по‑бабьи заголосила, что если они не разойдутся, она вызовет милицию. Но дело было сделано, устало бросив биты в крапиву, отряхнувшись, парни вышли на улицу Ленина успокоиться в прогулке и заодно поглазеть на местных красоток. Окровавленный, в полубеспамятстве, Зверев выполз наружу, на траву, на воздух. Эдик Штейнберг с Володей Стеценко дотащили его до городской больницы. Врач Чехов в царские времена перебывал во многих земских больницах и видел всякое, но попади он в тарусскую – пошатнувшись, опёрся бы о бревенчатую стену, затряслась бы его борода, и с печальным звоном упало бы пенсне и разбилось вдребезги о грязные доски пола. Было поздно, когда втащили окровавленного Зверева, Из персонала никого, лишь одна дежурная, она же уборщица. Её застали за мытьём пола в коридоре. – Положите его на пол. Вон там сухое место. На возражение Эдика и Володи, что это невозможно, что у пострадавшего открытые раны, равнодушно ответила: домою пол, а там посмотрю. Зверев застонал. Его осторожно положили на спину. Вышли на улицу перекурить у двери. Когда вернулись, увидели страшную картину: уборщица разгоняет половой тряпкой под Зверева потоки грязи, на окровавленные руки, голову, лицо. Ребята с руганью подняли с пола Анатолия, сами нашли в тесноте больничных кроватей пустую койку, куда осторожно его положили. Ранним утром сквозь стон Зверев разглядел соседа. Голова в запёкшейся крови, вместо уха – ничего. Недавних врагов судьба поставила на одну доску, и им было лучше друг друга не узнавать. Сквозь вибрирующую кисею предрассветного утра всё яснее проступали крыши Тарусы, из труб шли вертикальные дымы, зябко мычали коровы, блеяли козы. На прояснившемся небе чётко вырисовывалась каждая веточка, каждый листочек. И, наконец, огромное солнце озарило наш мир, полный боли и безысходного страдания. Зверев, дождавшись прихода главного врача, заявил ему, что если его не отпустят в Москву, он нашлёт на больницу всё французское посольство. Врач явно струхнул. Заставил перевязать Зверева, промыть ему нос и выпустил его на свободу. Я с Харитоновым просидел всю ночь за игрой в подкидного дурака, чтобы до утра скоротать время, а утром пойти в больницу навестить Зверева. Но тут кто‑то громко ногой затарабанил в калитку. На пороге – окровавленный Зверев. Левая рука была забинтована и подвешена грязной тряпкой к шее. Три глубоких укуса, словно деления на шкале градусника, пересекали его нос. – Срочно в Москву, в Склиф, – приказал мне он. В таком виде нас не брала ни одна машина. С большим трудом нашёлся самосвал, который нас довёз до железнодорожной станции города Серпухова. Наконец, преодолев тяжёлый путь, мы вошли в больницу Склифосовского. Зверева отвезли на каталке в рентгеновский кабинет. Мне предложили идти домой, завтра его можно будет навестить. На следующий день я входил в палату, где лежал Зверев. Вся палата, кроме Зверева, висела на растяжках. Разбившийся автогонщик, провалившийся сквозь чердак на лестничную клетку. И милиционер. О нём история особая. В высотном здании на площади Восстания алкаш одной из квартир одиннадцатого этажа, напившись до безумия, начал терроризировать соседей. Те вызвали милицию – благо, она рядом. Стоял жаркий июльский день, у алкаша окна нараспашку. В ответ на требование мента пройти с ним в участок алкаш выкинул его в окно. Несомый горячими струями воздуха, раздувая паруса формы, мент описывал в раскалённой атмосфере круги и плавно, как стервятник, приближался к земле. Но планеризм его полёта был грубо прерван огромной скульптурой Никагосяна, украшающей выступ винного отдела. Задев сапогом за каменный сноп пшеницы, покоившейся в руках у богини плодородия, тело мента, потеряв плавность полёта, начало непредсказуемо кувыркаться. От неминуемой гибели его спасла толпа, терпеливо ожидавшая открытия винного отдела. Как снег на голову, мент с неба врезался в самую гущу, разом убив наповал двух алкашей. Так Зверев оказался его соседом по Склифу. Залитые гипсом, на растяжках, они для Зверева были безопасны. Он единственный мог спокойно передвигаться по палате. – Слушайте вы, идиоты, неужели до ваших пустых мозгов не доходит, что ваша полнокровная жизнь кончена и началась белокровная. Государство о вас позаботится, и вы получите по двадцать одному рублю пенсии. Это в месяц литр водки без закуски. Подвешенные наперебой исступленно начинают орать, что они, как только выйдут на свободу, не только ему нос отгрызут, но и ноги из задницы повыдёргивают, что они прекрасно понимают – он в банде. – Кто к тебе ходит: бородатые, лохматые, наглые, косые – это одна шайка, и мы, выйдя на свободу, её разоблачим, а милиционер подыщет статью и всех в Бутырку. Дверь палаты распахивается. В роговых очках, в свежей белой рубахе, вальяжно входит улыбающийся Костаки. Палата примолкла. – Угощайтесь, голубчики, – и Костаки ставит на середине палаты ящик свежей израильской клубники, словно забыв, что «голубчики» до ящика никак не дотянутся. Поговорив со Зверевым, с его хирургом, Костаки прощается и захлопывает за собой дверь. Вопли переломанных возобновляются с новой силой. – Вы одна мафия, теперь это ясно, а в роговых очках – ваш крёстный отец. Как ни странно, они были близки к истине. Вскоре я уехал к матери на дачу в Тучково. Лето прошло незаметно. Я почти забыл тарусскую трагедию. Но август мне напомнил, что в этом месяце я должен внести вторую половину суммы за дом. Денег ни гроша. Холодным дождливым утром я отправился в Тарусу, что‑то предпринимать с домом. Нашёл покупателя и вырученные от продажи деньги вернул прежнему хозяину. Борух помог мне погрузить вещи в крытую машину до Москвы. Купили в дорогу ящик болгарского вина, тяпнули по прощальному стаканчику и тронулись в путь. За бортом в дымной пелене осеннего дождя растворялась Таруса. Наконец она исчезла навсегда." |
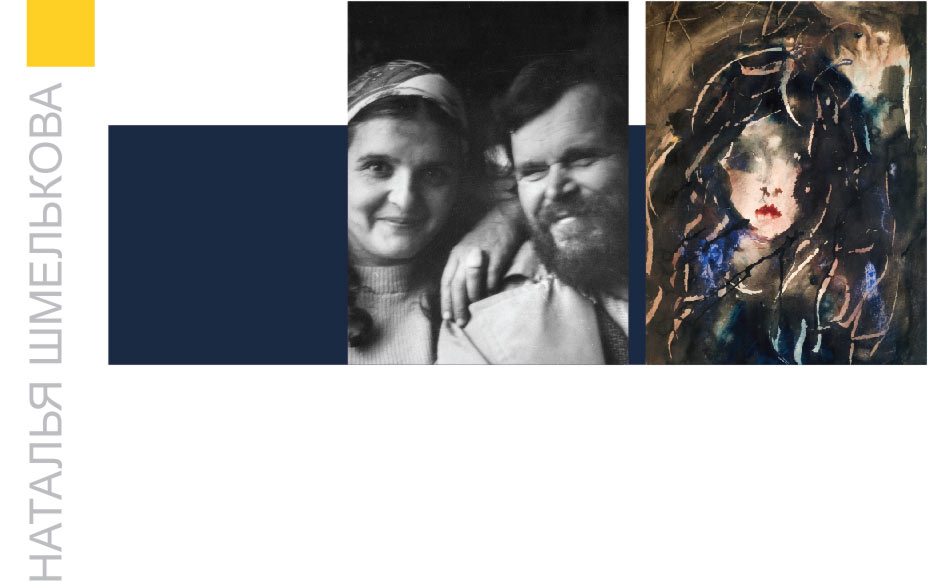
|
|
НАТАЛЬЯ ШМЕЛЬКОВА
биограф Анатолия Зверева. Окончила географический факультет МГУ, кандидат наук.Автор книги «Анатолий Зверев. Воспоминания современников» и др., а также ряда статей и публикаций в российских и зарубежных СМИ. Лауреат премии «Словесность». далее |
|
Биограф Анатолия Зверева. Окончила географический факультет МГУ, кандидат наук. Автор книги «Анатолий Зверев. Воспоминания современников» и др., а также ряда статей и публикаций в российских и зарубежных СМИ. Лауреат премии «Словесность».
"Познакомил меня со Зверевым в 1976 году художник Лев Рыжов. Как‑то позвонил по телефону и сказал, что через час‑другой зайдёт со своим другом. И вот открываю дверь. Они. Незнакомец представляется: «Христофор Колумб». В руке у Христофора раздутая какими‑то нескончаемыми свёртками авоська. Через прорванную бумагу одного из них проглядывает большая рыбья голова. Облачён он сразу в две рубашки и обе – швом наружу. Уже сталкиваясь в среде художников с этой странной модой, спрашиваю: «Скажите, а вы случайно не ученик Василия Яковлевича Ситникова?» В ответ слышу: «У художников, детка, очень нежная кожа, и швы её сильно трут, вот потому так и ношу». Садимся за стол. Пока жарится принесённая рыба, разливаю суп. Зверев смотрит на свою тарелку подозрительно, потом медленно встаёт из‑за стола и резким движением выплёскивает её в раковину. Недоумевая, наливаю вторую, но участь её та же. Чувствую, что он за мной наблюдает, – как отреагирую. Ну что ж, думаю, игра так игра – и наливаю третью, четвёртую… но всё опять в раковину. Наконец не выдерживаю. «Послушайте, – говорю. – В кастрюле почти ничего не осталось. Может быть, вы съедите хоть одну тарелку?» И наконец Зверев милостиво уступает. А потом – игра в шашки – в поддавки. Фигур на доске не хватает, и недостающие Зверев заменяет крышками из принесённого им пива. Выигрываю партию, от чего его охватывает гнев. От неожиданности я чуть не плачу. И вот тогда он просит бумагу, кисти, краски и за несколько минут пишет мой портрет. Он выплёскивает на бумагу целый таз воды, молниеносно замешивает на ней кистями выдавленную из тюбиков краску, резко прочерчивает кухонным ножом какие‑то линии, и вот портрет готов, и он – замечательный. Зверев писал всем, что попадалось под руку. Помню, как на квартире у одного художника он взял с тарелки кусок нарезанной свёклы и на удивление присутствующим сделал им одной линией с кого‑то великолепный набросок. Посмотрев на него, Зверев иронично хмыкнул: «Похож». Что тут началось! Многим, даже ни разу не державшим кисть в руке, тут же захотелось рисовать. Хозяин дома еле успевал снабжать желающих бумагой. Через несколько минут кухня, где все сидели, превратилась в студию. Что бы ни делал Зверев – рисовал, писал экспромтом стихи или играл на рояле, чему он никогда не учился, – собою просто заражал и, находясь в привычной для себя обстановке, всегда был в центре внимания. Он не мог обходиться без людей, и тяга его к ним была вызвана не просто бегством от одиночества, но и необыкновенной душевной щедростью, артистизмом, которые необходимо ему было как‑то реализовать, выплеснуть. Через Зверева я познакомилась с вдовой поэта Николая Асеева – Оксаной Михайловной. Она меня сразу покорила, особенно своим нежным, терпимым, почти материнским к нему отношением. В её доме Толя мог позволить себе и разгуляться, зная наперёд, что здесь ему всё простят. Например, несёт он из кухни полную кастрюлю горячего компота. Вдруг делает вид, что обжигает руки, и – весь компот на полу, на ковре. У Зверева притворно виноватый вид, а Оксана Михайловна сердится не больше минуты. Вспоминаю, как одна московская коллекционерша, хорошо знавшая Зверева, как‑то про него сказала: «Отыгрывается на тех, кто его любит». Зверев, любивший писать экспромтом стихи, очень многие из них посвятил Оксане Михайловне. Вот один из них: Упавший лист (элатою‑непогодою); – Я – негодую – и – томлюсь душой – своей; – Что – вам – угодно?.. – лист спросил – Дубовый, – и я ответил: «Думаю… о – Ней!» Лучшее – это: … ветер и – «зной», Что – «со‑мною»… в цвете – «сини»;… Это листъя‑осенние… «наперебой»;… Песнь поют «Есенина»… Про Асееву – Оксану – весеннюю, Что лежит «сырой – травой»… И «не отравой» – дерева‑«зверева». Оксане Михайловне было не по душе, когда Зверев называл её «старухой». – Поймите меня правильно, – как‑то сказала она. – Я понимаю, конечно, что у вашего поколения такое обращение принято, но я‑то действительно женщина преклонных лет! Передаю её слова Толе. На следующий день Асеева, заливаясь своим звонким молодым смехом, сообщает: «Только что звонил Анатоль и спросил: „Старик, ты не одолжишь мне рубля три на пиво?“» Зверев любил рассказывать ей о своих знакомых, да и о себе самом самые невероятные истории, и наивно‑доверчивая Оксана Михайловна всему верила. Как‑то она сама мне позвонила. – Деточка, – слышу в трубке её голос. – Как же это могло случиться, как вы себя чувствуете? Ничего не понимая, спрашиваю: – А что, собственно, случилось? – Да как же! Вчера заходил Толечка и рассказывал: «Слушай, иду я по улице Горького и встречаю Наташку. Приспичило ей газировки выпить, а стаканы из автомата растащили, конечно. Опустила она три копейки в автомат, голову прямо внутрь сунула, а вытащить обратно не может, голова‑то большая. Народищу собралось… Милиция…» В своих проявлениях Зверев был непредсказуем. Привела я как‑то к Асеевой посмотреть на его шедевры своих знакомых – почтенную семейную пару. У Оксаны Михайловны – Толя. Она, торопясь уйти на некоторое время к своей сестре, художнице Марии Синяковой, строго‑настрого наказывает денег ему не выдавать, как бы ни просил. Как только захлопывается за нею дверь, Зверев, хитро сощурив глаза, начинает взывать к милосердию: «Детули, ну хоть бы по ко‑пе‑е‑ечке…» Посетители ёрзают, у них на визит не больше часа времени. Незаметно для Зверева договариваемся ему уступить, но так, чтобы на желаемое не хватило. Набираем со скрипом какую‑то сумму. Толя сразу успокаивается. Неторопливым движением он запускает руку в карман пиджака и, вынув из него пачку десятирублёвок, начинает смачно отсчитывать: одна, две, три, четыре… Потом, обращаясь к гостю, командует: «Ну, ты, ослиная морда, быстро за коньяком. Три бутылки! Гав!» Всё происходит так неожиданно, и глаза Зверева так уморительно по‑детски задиристы, что «ослиная морда» и не думает обижаться. Сокрушённо разведя руками, гость берёт деньги и, как под гипнозом, выплывает из квартиры. И вот коньяк на столе. Вредно позыркивая на нас глазами, Толя открывает сразу три бутылки и поливает их содержимым все стоящие на подоконнике в горшках цветы. Последними оставшимися на дне каплями коньяка он орошает себе голову, характерным движением втянув её в плечи, и при этом странно хихикая. Смотрю на своих знакомых – немая сцена… Как‑то мы с Толей заехали к нему домой, в Свиблово. Бывать он там не любил из‑за частых и неожиданных визитов милиции, а потому называл Свиблово – «Гиблово». В маленькой однокомнатной квартире тогда ещё жила его мать – Пелагея Никифоровна. Как только она открыла на наш звонок дверь, то сразу мне понравилась, особенно глаза, – живые и пронзительные. В бедно обставленной, но чисто убранной комнате ничего лишнего – диван, отделённый матерчатой занавеской, стол, несколько стульев, кровать, шкаф. Толя попросил переодеться, и Пелагея Никифоровна выдала ему на выбор несколько чистых рубашек. Чувствовалось, что она всегда была готова к его редким и неожиданным приходам. В Свиблово Зверев почти не рисовал, но показывал мне – извлечённую из большой папки – целую пачку своих ранних работ. Это была прекрасная графика – в основном рисунки животных и портреты. На подоконнике я заметила запачканную старой затвердевшей краской вазочку с сильно потёртыми кистями и попросила одну из них мне подарить. Толя, сделав ножом на конце кисти срез, шариковой ручкой аккуратно подписал: «АЗ‑76». Потом он извлёк из какого‑то ящика мастихин, явно не отечественного производства, и протянул его мне: «Возьми, это подарил мне на фестивале Сикейрос». Я стала отказываться – не надо, ведь это такая память, но Толя повторил: «Да бери же, всё равно сопрут». От Пелагеи Никифоровны я впервые услышала о Толиных детях – дочери Верочке и сыне Мише, которых он после развода с женой уже многие годы не видел. Многим знакомым Зверева казалось, что, живя свободно, как птица, он о детях своих чуть ли не забыл. Но вспоминаю, как близкий его друг художник Дмитрий Плавинский однажды сказал: «Хорошо бы Зверева снова познакомить с детьми, только встречу с ними надо как‑то продумать и заранее его к ней подготовить». И вот, встретив Толю у общих знакомых и забыв о наставлениях Плавинского, я в разговоре нечаянно ляпнула: «Толя, а тебе не хотелось бы повидаться со своими детьми?» Пребывавший в прекрасном расположении духа Зверев вдруг резко отвернул голову к окну. Через несколько секунд он уже снова весело балагурил, но на глазах его ещё были заметны следы внезапно навернувшихся слёз. Зверев любил рисовать животных и часто посещал зоопарк. Однажды мне посчастливилось отправиться туда вместе с ним. Наброски посыпались в маленький альбомчик сразу, как только мы вошли. Рисовал Толя почти всех и почти на ходу. Особенно мне запомнилось, как позировал (именно позировал) ему лев. Томившийся от жары и неволи зверь, распластавшийся в тесной клетке, мрачно поглядывал на толпившихся вокруг посетителей. Толя подошёл вплотную к клетке и, периодически простреливая глазами льва, почти не глядя на бумагу, стал стремительно наносить на неё штрихи. Как на сеансе гипноза, лев вдруг медленно поднялся с пола и, приблизившись к решётке, в упор уставился на Зверева. Так и простоял он, почти не шелохнувшись, несколько минут, пока рисунок не был закончен. Невозможно было не обратить внимания на реакцию посетителей – и детей, и взрослых. На льва уже никто не смотрел. Все, затаив дыхание, наблюдали за Зверевым. Рисунок получился замечательный, и, глядя на него, невольно вспомнила строчки Блока: Так на людей из‑за ограды Угрюмо взглядывают львы. Не помню точно, в каком году в Третьяковской галерее экспонировалась выставка портрета. Несмотря на сильный мороз, очередь выстроилась огромная. Зная о знакомстве Зверева со многими работниками Третьяковки, я попросила его провести меня через служебный вход. На выставке Толя первым делом отправился в буфет для сотрудников, где, как он успел выяснить, было чешское пиво. Закупив 10 бутылок, Зверев широким жестом разом выставил их на столик, за которым две дамы оживлённо беседовали об искусстве. Помню, как они посмотрели на нас с немым укором. Толя явно бравировал, тем более, как потом выяснилось, дамы эти показались ему подозрительными, а подозрительных он недолюбливал. Посидев в буфете и загрузив оставшееся в авоську, Зверев плавной походкой направился в зал. Стоящая у входа смотрительница, пожилая, интеллигентного вида женщина, посмотрев на нашу ношу, вежливо запротестовала: с такой сумкой в зал входить нельзя. «Тогда я не пойду», – закапризничал Зверев, и, к моему удивлению, она начала его уговаривать всё же посмотреть картины. Конечно, она Толю знала. Через несколько минут Зверев предложил немедленно покинуть зал, пообещав при этом часа за два, за три у кого‑нибудь из знакомых нарисовать всё, что в нём было выставлено. Уходить так скоро, конечно, не хотелось, и чтобы лишить Толю в своём лице терпеливого зрителя его забав, я предложила хоть какое‑то время походить по выставке отдельно. Как сейчас, вижу его перед собой. Оставшись один и не чувствуя, что за ним наблюдают, он долго стоял неподвижно, слегка наклонившись вперёд перед какой‑то картиной. Не знаю, чем она привлекла его внимание, понравилась или нет, но казалось, что он взглядом своим, как рентгеном, просвечивает холст. От сцены этой трудно было оторваться. Как известно, смотреть умеет каждый, но не каждый умеет видеть. Зверев умел. Как‑то на собрании Городского комитета графиков одним из присутствующих было предложено ходатайствовать о присвоении Звереву звания народного художника СССР. Предложение это вызвало у многих весёлый смех: независимого и неуправляемого бунтаря Зверева представить в этом «почётном звании» действительно было невозможно. Один из художников пошутил по этому поводу. «А что, – сказал он, – Зверев действительно народный художник. Я вот недавно лежал в больнице, и что же вы думаете? У моего соседа по палате, работяги‑алкаша из Подмосковья, оказалось несколько его работ!» Картины Зверева действительно можно было встретить в самых разных домах, и судьба их пестра. Прекрасно зная цену своим работам, он щедро раздаривал их порою малознакомым людям, в домах которых находил ночлег, а если и продавал, то за бесценок. Ещё при жизни художника подделки под его картины гуляли по Москве, а после его смерти картины за большие суммы продавались на аукционах. Работы обменивали, перепродавали, выпрашивали, похищали, шедевры погибали в огне при пожаре, они не только вставлялись владельцами в добротные рамы – ими (бывали случаи) могли накрыть мусорное ведро или просто выбросить. Помню, как освобождался под учреждение дом на улице Рылеева, в котором Зверев часто останавливался у художника Виктора Михайлова. Наступил момент, когда Михайлов остался во всём доме один и, не желая выселяться, забаррикадировал входную дверь своей квартиры. В один из дней к нему всё же ворвалась истомившаяся от долгих ожиданий общественность. Сопротивление было бесполезно. Незатейливый скарб художника выволакивался во двор, где складывался в специальный контейнер, а то, что было полегче, – например, картины Зверева, – с улюлюканьем и гиканьем просто выбрасывалось из окна. В ответ на наше возмущение слышался хохот: «И эта мазня называется картинами?» Единственным, кто смущал налётчиков, был находящийся в это время у Михайлова писатель Венедикт Ерофеев. Сжав в руке свой аппарат, при помощи которого он говорил после операции, Веничка с бесстрастным видом внимательно наблюдал за происходящим. Незнакомый предмет в руке Ерофеева несколько насторожил общественность. Помню, как ему чуть ли не приказали: уберите свой магнитофон и прекратите записывать. Как‑то из Вострякова, где Зверев на несколько дней остановился у знакомых, мы все отправились в Переделкино на вечер Новеллы Матвеевой. Толя поехал, конечно, просто за компанию. Не хотелось одному оставаться в загородном доме. Как и следовало ожидать, присутствие его на концерте оказалось недолгим. Не прошло и двух‑трёх минут, как он, громко хлопнув сиденьем, направился к выходу, отпуская при этом поток разнообразных и крепких реплик. Зрители возмущенно зашикали. Я вышла вслед за ним в холл. Чинно проплывавшие мимо нас обитатели переделкинского Дома творчества поглядывали на Зверева с любопытным недоброжелательством, и не случайно. Я сразу и не заметила, что в зале он оставил свои туфли, возможно, натиравшие ему ноги. Так и шёл он в носках по паркету этого святого заведения походкой свободного человека. Конечно, туфли он не забыл, а, оказавшись в состоянии внезапно накатившего на него раздражения, нарочно оставил, хотя бы из любви своей к эпатажу. Где‑то в укромном уголке присели на мягких креслах в ожидании своих. И вот, наконец, концерт окончен. Толпа зрителей вываливается на улицу и, разбившись на группы, направляется к станции. Уже совсем темно и холодно. Идёт мелкий, колючий снег. Мы все голодны и грызём какое‑то пересохшее печенье. Толе предстоит ночевать в Востряково. По дороге он просит меня предварительно заехать с ним в Москву к Асеевой, чтобы занять у неё денег. Я тороплюсь домой и наотрез отказываюсь. Раздражение Зверева с каждой секундой нарастает, предвещая обернуться бурей. Неожиданно, отделившись от какой‑то группы людей, к нам присоединяется пожилой человек. Лицо его кажется мне знакомым. Некоторое время он идёт молча рядом, а потом вдруг предлагает: – Давайте я поеду с ним в Москву. Ничего не понимаю. – Да, но ведь уже очень поздно, – говорю я ему, – а ведь надо ещё и вернуться с ним обратно. Но незнакомец подтверждает своё предложение. За разговором отрываемся с ним немного вперёд. Не выдерживаю и спрашиваю: – Простите за любопытство, но почему вы проявляете к этому человеку такое участие? В ответ слышу: – Он напоминает мне чем‑то Ван Гога. – А вы не знаете его? – Нет, не знаю. – Это московский художник, Анатолий Зверев. Может быть, вы не слышали о нём? Незнакомец на секунду приостановился. На лице его искреннее удивление. – Как? Это тот самый Зверев? Так ведь я давно о нём слышал и мечтал хоть раз увидеть. Теперь удивлена я. Ведь Толя многим напоминал Ван Гога – как своим творчеством, так и судьбой. Уже потом я вспомнила этого человека. Им оказался страстно увлечённый живописью физик, профессор Новосибирского университета Юрий Иванович Кулаков. Как‑то, ещё много лет назад до этой случайной встречи, на одной из московских квартир он рассказывал собравшейся молодёжи о творчестве Сальвадора Дали, сопровождая рассказ показом слайдов. По тем далёким временам для многих это было в новинку. Уже потом, когда Толи не стало, вспомнив этот эпизод, я посвятила ему стихотворение. Памяти Анатолия Зверева Да, рядом с нами жил Ван Гог. Но после смерти нужен срок, Чтобы признание пришло. На этот раз оно взошло Ещё при жизни, видит Бог. Да, рядом с нами жил Ван Гог. Он мог нарисовать весь мир. Где он бывал – был всюду пир. Он погружал то в смех, то в плач. Он был и жертва, и палач. Палач – где не душа, а фарш. И обнажалась кистью фальшь. Он нищим был и богачом. И слабаком, и силачом. Сносил гоненья, недоверье, С улыбкою прощал Сальери. И часто спал он у дверей Своих поклонников‑друзей. Он виден был – издалека. Походка… Так была легка. Одежда? Разве в этом соль? Шагал по улице король! Шагал по улице Сократ. Нет. Он мудрей был во сто крат: Свободней – не было его. Отказываясь от всего, Раздаривал себя вразнос. И пил, и голодал, и мёрз, Но всё, что надо – сделал в срок. Да, рядом с нами жил Ван Гог.” |
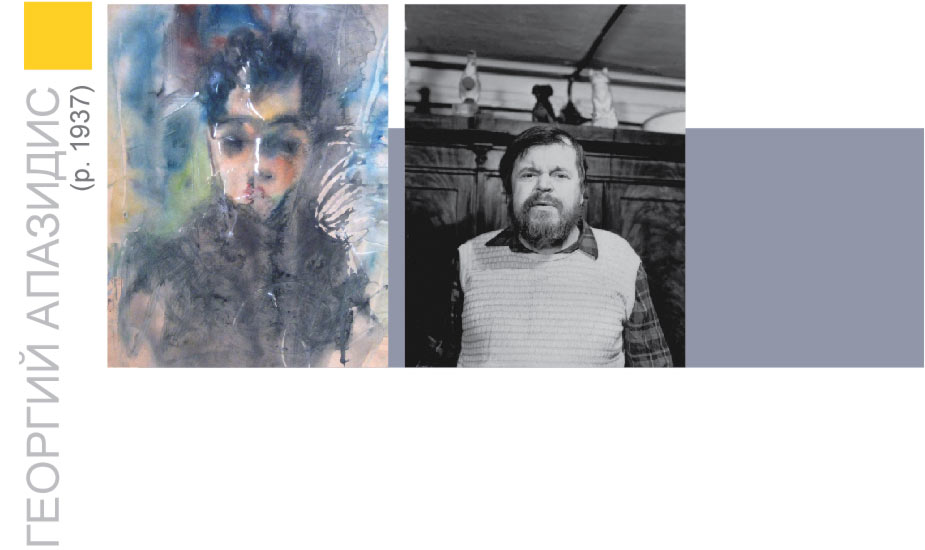
|
|
ГЕОРГИЙ АПАЗИДИС (Р. 1937)
продолжатель коллекционной и меценатской деятельности отца. Кандидат технических наук,автор научных статей, книг. Автор ряда эссе в российской прессе, в частности, посвященных художнику Анатолию Звереву. Вместе с братом Николосом активно содействует созданию Музея Зверева в Москве. далее |
|
продолжатель коллекционной и меценатской деятельности отца. Кандидат технических наук, автор научных статей, книг. Автор ряда эссе в российской прессе, в частности, посвященных художнику Анатолию Звереву. Вместе с братом Николосом активно содействует созданию Музея Зверева в Москве.
Цветы полевые «Летел по небу самолет, но был недолог их полет» - такими словами приветствовал меня Толя Зверев, на звонок которого однажды ранним утром я открыл дверь нашей квартиры на улице Куусинена в Москве. В руках он держал свернутую газету и изумительный букет полевых цветов с дождевыми каплями на них. «Толечка, ты это о чем?» -«А вы не слышали? Космонавты разбились. Вот в газете написано». Было это 30 июня 1971 года. Ошарашив нас этим известием, Толя протянул букет моей матери:» Это вам, Дора Константиновна. Ночевал я сегодня в поле. Утром букет собрал и на электричке в город. Вот, давайте, я его вам сейчас и нарисую.» И нарисовал. Букет этот и по сегодняшний день в моей квартире, правда, уже с другими градусами широты и долготы, но цветы те же, русские. Полевые. Толя и Верочка Вошел к нам в квартиру в этот день Толя как-то очень тихо. За руку он держал девочку лет шести, то же очень тихую. На ней был сарафан и платочек на головке. Барышня-крестьянка. Звали ее Верочкой. Это была дочь Толи. Также тихо прошли они, держась за руки, на кухню и сели по разные стороны стола. Девочка, увидев лист бумаги на столе, движением головы попросила у Толи карандаш, всегда имевшийся у него в кармашке пиджака, и погрузилась в рисование. Пробыли они у нас несколько часов. Толя в этот день отказался от своего любимого пива «Туборг» и пил только чай, изредка поглядывая на то, что рисовала Верочка, но никак не вмешиваясь. Так же тихо отец и дочь ушли от нас, оставив память о себе, которой уже полвека. Русскость Зверева Зверев наскозь русский. Во всем. Русским остается он и в своих пейзажах, и в своем русском понимании абстракции и, самое главное, в своем всепрощении. Ведь посмотрите, изобразив нас и поняв наши самые внутренние и часто не очень симпатичные и скрываемые нами черты, он прощает все это своим :»Улыбочку!», произносимым в конце написания портрета. А видел он насквозь. В начале 60-х годов у нас дома в гостях в Москве был наш старый знакомый крупный шведский бизнесмен со своими коллегами. А тут и Толечка в дверь звонит. Бизнесмен этот много слышал о Толе от нас раньше и загорелся :» Не мог бы Зверев написать его портрет сейчас?» Краски и бумага остались у нас от предыдущих посещений Толи и через двадцать минут портрет был готов. Надо сказать, получился он несколько грозным и каким-то неопределенным. Бизнесмену, тем не менее, портрет понравился и он, очень довольный, забрал его с собой. На следующий день узнаем: бизнесмен в больнице – у него удар. Спешим в Боткинскую – и что мы видим? - лицо человека стало таким, каким его накануне изобразил Толя. Немного страшно писать это даже спустя полвека. Когда мы рассказали об этом Толе, он задумался и ничего не сказал. Добавим, что, к счастью, и в большой мере благодаря искусству и заботе русских врачей больного восстановили. Опять же русскость художника. В одном из апулеевских рисунков Толи осел (вообще-то, «ослишко») держит в руке бутылку русской водки (и это-то в древнеримском произведении!), не исключено «Столичную» - небось, потратился ради такого случая -, которую он по-братски протягивает своей милахе. И «Золотой осел» сразу стал русским! Гений! Гений, вы Зверев, Председатель земного шара! Расставание с Толей В середине вьюжного февраля 1973 года после целого дня проведенного у нас дома Толя попросил отвезти его домой в Свиблово. Надо сказать, что через пару дней мы с Анитой, у которой кончался пятилетний срок ее работы в СССР, уезжали в Швецию, а сказать об этом Толе я как-то не решался, наверное, боялся –неизвестно было, когда мы вновь свидимся. Толя, видно, что-то чувствовал, но ничего не спрашивал и атмосфера была несколько наэлектризованной и какой-то грустной. И разговоры были какими-то беспредметными. Мы с Анитой с радостью взялись отвезти Толю домой. Он сидел в машине рядом со мной и за всю дорогу не сказал ни слова. Подъезжаем к Свиблово («Гиблово» по Толечке). Дорога завалена снегом, страшно метет, скудное освещение. Наш «Сааб» заносит в сугроб, из которого его надо как-то вызваливать. Ситуация какая-то не та: «Сааб-96» с дипломатическими номерами (д-73-250) в сугробе в Свиблово. Что он там делает на расстоянии световых лет от посольских особняков? Народ нас как-то сторонится (не забудем какой год). Я сажаю Аниту за руль, а сам толкаю машину. Вылезли. Здесь и Толя открывает свою дверь, выходит из машины и, не обернувшись, через пару шагов растворяется в свибловской мгле. Для меня навсегда.» |

|
|
ПОЛИНА ЛОБАЧЕВСКАЯ
галерист, арт-куратор, один из создателей Музея Зверева. Преподавала во ВГИКе актерское мастерствои режиссуру в мастерских М. Ромма, Б. Бабочкина, Г. Данелия, А. Згуриди, М. Хуциева. В начале 1990-х создала галерею «Кино» (совместно с Е. Юреневой), а затем «Галерею Полины Лобачевской». Большая часть галеристской деятельности была посвящена популяризации наследия Анатолия Зверева. Автор и куратор многочисленных камерных и масштабных выставок, посвященных Звереву, в том числе в Третьяковской галерее и «Новом Манеже» (выставки «Зверев в огне» и «На пороге нового музея»). Автор издательского проекта Музея АЗ. далее |
|
Галерист, арт-куратор, один из создателей Музея Зверева. Преподавала во ВГИКе актерское мастерство и режиссуру в мастерских М. Ромма, Б. Бабочкина, Г. Данелия, А. Згуриди, М. Хуциева. В начале 1990-х создала галерею «Кино» (совместно с Е. Юреневой), а затем «Галерею Полины Лобачевской». Большая часть галеристской деятельности была посвящена популяризации наследия Анатолия Зверева. Автор и куратор многочисленных камерных и масштабных выставок, посвященных Звереву, в том числе в Третьяковской галерее и «Новом Манеже» (выставки «Зверев в огне» и «На пороге нового музея»). Автор издательского проекта Музея АЗ.
"На рассвете я вспоминаю… Сквозь сон слышу телефонный звонок. Вскакиваю. На часах пять утра. Боже, кто это, что случилось?! А в трубке знакомое: – Алло, привет! – Толя, вы знаете, который час?! – А откуда мне знать, у меня часов нету. – Где вы, Толя? – Да я и сам не пойму, детуля. Где‑то… А я бы мог зайти отогреться? – О, Боже!.. Ну уж, раз разбудили – идите. Приходит в сопровождении таксиста, который с недоверием переводит взгляд с Анатолия на меня и, лишь получив деньги, успокаивается и удаляется удивленный. Анатолий с деловым видом идет на кухню, садится на раз и навсегда облюбованное место на диванчике и начинает как бы недавно прерванную беседу – о том о сем и тут же «хорошо бы закусить да выпить, если есть», а если нет, то и на чай согласен. «Да и вообще, идет тебе, старуха, этот халатик, давай увековечу». Все происходит просто, непринужденно, будто бы сейчас и не пять утра. Нанизываются слова, словечки, рифмы, образы; рисуются лошадки, головки карандашами цветными, акварелью, фломастерами – всем, что в данный момент есть у него или в доме. Пьется чай, а зачастую и что‑нибудь покрепче, потому что «без этого, детуля, никак нельзя». – Да почему же это нельзя, Толечка? Ведь губите вы себя, свое здоровье, – завожу я старую песню. – Ну ты, старуха, зажралась! У тебя квартира, одежда теплая. А я в дрянных ботинках на улице промокну – и пропаду! Так что именно о своем здоровье и забочусь, для моего здоровья только это и необходимо!.. А в это время лошади уже скачут, печальный Дон‑Кихот мчится к мельницам, моя собака Патрик увековечивается почему‑то с цветком возле мохнатого уха… – Толя, а почему у Патрика цветок шиповника из‑за уха торчит? В ответ только взгляд, который я по сей день не могу забыть и объяснить. Спустя приблизительно полгода Патрик умер, и я похоронила его в Пахре в конце зимы. Я долго не приезжала в Пахру и оказалась там лишь летом. На могилке Патрика я увидела куст шиповника. Мой знакомый, которому я рассказала эту историю, как о само собой разумеющемся, сказал: «Это вам ваш Патрик знак подал». А вот кто же этот знак подал Толе? Сенека утверждал, что предметом искусства является отступление от нормы. Вся жизнь этого гениального художника была проживаема художественно, была полна знаков, образов, даже метафор – не только живопись и стихи, а каждодневное его существование, взаимодействие с окружающим миром – все было художественно. Толя был неким тестом – отношением к нему проверялись люди. Его поведение, реакция на окружающее в глубинной своей сути расставляло все по своим законным местам, отделяло истинные ценности человеческой жизни от ложных. Мы с Толей познакомились в 1956 году. Александр Александрович Румнев, с которым я сотрудничала в стенах ВГИКа, человек огромной культуры и редкого артистизма, сказал мне как‑то: – Я хотел бы, чтобы замечательный художник Анатолий Зверев написал ваш портрет. Сказал он это с какой‑то несвойственной ему настойчивостью, и хоть позировать совершенно неизвестному мне художнику никак не входило в мои планы, я почувствовала, что Румнев не отступит. Александр Александрович пригласил меня к себе домой, на Метростроевскую улицу. Его квартира завершала образ Александра Александровича своей артистической обстановкой. Чего только не было в его небольшой комнате: и старинные миниатюры, и замечательные тарелки, и картины… Восток, Запад, Россия – все соединялось в одной комнате. Но вдруг – яркое пятно, привлекающее к себе особое внимание даже среди этого обилия уникальных и прекрасных произведений искусства – портрет мужчины в мексиканской шляпе! – Чей это портрет, Александр Александрович? – Так ведь это автопортрет того самого Зверева, о котором я вам все время говорю! Впечатление сильное, шоковое. Никуда не спрятаться в комнате от глаз слегка прищуренных, проницательных, глядящих с портрета. Живописная манера поражает необычайностью, силой. – Да, да! Александр Александрович, я конечно хочу, чтобы он написал мой портрет! Знакомьте! Ранним утром – продолжительный, прерывистый, очень громкий звонок в дверь. Открываю. Входит странного вида, франтовато и вместе с тем небрежно одетый человек, совсем не такой, как на румневском портрете. Лицо доброе, манера и вся повадка мягкая, никакого напряжения, как будто уже сто лет знакомы. Рядом кругло‑круглолицая девушка по имени Надя. – Она – художница! – говорит с гордостью Зверев. – Моя жена. Ну, что ж, начнем, что ли?! Только тут я заметила, что я в махровом халате, извинилась и сказала, что пойду переоденусь. – А если для портретирования, так и не надо. Так живописно, – сказал он, по особому прищурив глаза, и сразу стал похож на румневский портрет. – А есть ли у вас, Полина Ивановна, пол‑литра, она же палитра?.. – начал он нанизывать слова‑словечки. А сам вглядывается. Превращает медный поднос в палитру, кухонные ножи в мастихины… Я мечусь. Надя открывает тюбики с красками. А он спокоен, благостен и говорит, говорит, говорит. Необычное построение фраз, шуточки… И вдруг острое и точное наблюдение! И снова – слова, они – нанизываются, как яркие бусы, на одному ему ведомые нити… И вот – первый взмах руки! Пауза. Прицел. И сильный мазок. Несколько коротких энергичных линий, прочерченных ножом‑мастихином. Еще один прищур правого глаза, еще несколько, как бы вдавливающих краску в холст, движений ножом в полном молчании. И, наконец, появляется кисть. Он яростно ввинчивает ее в поднос‑палитру, смешивает краски… и снова слова‑словечки, шуточки и легкое порхание кисти. Потом, когда мне довелось наблюдать эти сеансы достаточно часто и порой со стороны, когда Толя рисовал кого‑либо из знакомых, я уже понимала, какая огромная затрата энергии, какое глубокое сосредоточение душевных сил стоит за этой внешней легкостью. Я никогда не видела «творческих мук», эффектных поз, желания произвести впечатление на портретируемого, был ли это дипломат, известный музыкант или школьник. … И вот, один за другим возникают пять портретов (эдак часа за 2–3 работы) – все разные, неожиданные, красивые. Мой халат преображен в самые разнообразные одежды. К концу сеанса приходит Александр Александрович Румнев и все пять портретов… забраковывает! Анатолий и бровью не повел. «Завтра нарисую другие». Он со смиренным видом выслушал мнение Александра Александровича, не возразил ни слова. А ведь картины‑то были замечательные. Таким образом, с первого дня знакомства я увидела в Анатолии редкое в нашей жизни внутреннее благородство, отсутствие амбициозности. Хотя не лишен он был и едкой наблюдательности, владел такой же точностью словесного портрета, как и изобразительного. Но при всех симпатиях и антипатиях к огромному количеству людей, окружавших его, Анатолий Тимофеевич всегда был, по сути, снисходителен к людским слабостям, как бы наперед все прощая людям, у которых так много непонятных и чуждых ему пристрастий и стремлений. Квартиры, дачи, машины, мастерские, мебель, социальное процветание и карьера – все это было для Зверева несущественно, вовсе не входило в круг его интересов. Он жил для того, чтобы заниматься искусством, писать картины. И обращался за помощью и поддержкой к своему учителю Леонардо и к своим друзьям Ван Гогу, Саврасову, а не в Союз художников. Он искренне радовался, когда картины его висели в красивых домах и гордился этим. Вспоминая об этом удивительном человеке, прошедшем свои пытки и радости земного пребывания, не хочется вспоминать его житейские слабости; мощь его личности, его художественного гения перекрывает все это. А хочется вспомнить светлые минуты его жизни, свидетельницей которых я была. На мой взгляд, история его взаимоотношений с Оксаной Михайловной Асеевой – история преданной любви, осветившей и жизнь Толи, и жизнь Оксаны Михайловны. Она, благодаря своему жизненному опыту и высочайшей культуре, сумела, несмотря на грубость, порой, внешних проявлений, по достоинству оценить и душевные качества Толи, и его уникальный талант. Многим казалась странной, смешной любовь художника к очень пожилой женщине. Но ведь это была любовь и тяготение не только к конкретной женщине, но и к целой эпохе, к Серебряному веку русской культуры. Эта любовь была мостиком, перекинутым к времени, когда Искусство было живо. И, общаясь с Оксаной Михайловной, Толя, как мне кажется, вступал в равный диалог с Хлебниковым, Пастернаком, с художественной атмосферой ее молодости, которая была ему ближе и понятней окружающей его жизни. Не случайно в то время он писал огромное количество стихов, вступая в соревнование с Председателем Земшара Велимиром Хлебниковым. Удивительно умиротворяюще на Толю действовала природа. Он никогда не говорил о своей любви к природе, к животным. Он просто сам был как бы явлением природы – так органично существовал он за городом, привлекая к себе любовь всего живого. Летом на даче, где он скрывался от бдительных милиционеров в год Олимпиады, жил пудель по имени Филя – добродушнейшее существо, не причинявшее своим хозяевам особых хлопот. Просыпался Филя в одиннадцать вместе со своими хозяевами и жил комфортной жизнью вполне воспитанной собачки. Но встреча с Анатолием круто изменила весь распорядок его жизни. Теперь на рассвете, часа в четыре утра Филя вскакивал, бежал к двери, из которой обычно появлялся Анатолий, взвизгивал от нетерпения, подпрыгивал, и весь вид его выражал напряженнейшее ожидание. Когда Анатолий выходил, радость Фили была безгранична. И начинался ежедневный ритуал. – Ну, как поживаешь, старик? В ответ – преданнейшее виляние хвостом. – Значит, займемся делами, старуха! – Анатолий, а почему вы обращаетесь к Филе, называя его то стариком, то старухой? – спрашивала сонная хозяйка Фили. – А потому что он кобель – значит, старик, а вместе с тем он собака – значит, старуха. Толя медленно передвигался по участку, умывался, делал какое‑то подобие гимнастики. Филя неотступно следовал за ним. Затем Толя начинал готовить свой рабочий стол (пинг‑понговый) для «утреннего рисования». Филя следил за каждым его движением. Выдавливаются краски на палитру, чистятся и моются кисти, идет обстоятельная беседа с Филей, что станет сегодня объектом рисования – ближайший куст со сломанной ночным ветром веткой, или та дальняя береза у завалившегося забора, или сам Филя… Пес слушает внимательно, как бы боясь пропустить что‑то главное. И вот уже контуры березы проглядывают на грунтованном картоне. Закончив картину, Толя спрашивает: – Ну как, старик? Филя виляет хвостом, перебирает лапами. – Вперед! – командует Толя. Филя рывком бросается на противоположный конец полянки, хватает зубами мяч, подбрасывает его несколько раз, пасует Толе, а сам застывает между деревьями. Он – вратарь. Анатолий ударяет по мячу. И начинается азартнейшая игра в футбол. Оба играют с полной отдачей, показывают чудеса ловкости, хитрости. Игра идет на равных, с одинаковой степенью детской увлеченности. – Ну что ж, отдохнули, теперь за работу! – Филя слушается беспрекословно. И снова кисть в руке у Толи, и снова Филя рядом и делает вид, что не слышит, как настойчиво зовет его хозяйка. Хозяева Фили даже приревновали его к Толе – с ними он так не общался и в игре таких трюков, как с Толей, не выделывал. – Это потому, – объяснил им Толя, – что он думает про вас, что вы люди. А меня считает собакой. Толя испытывал постоянную потребность в игре, каждый день просил окружающих поиграть с ним в шашки, в шарады. Но нам зачастую было не до игр и не до него – так много дел других… А он, казалось бы, играючи, успевал как никто много. К тому времени, когда обитатели дачи продирали глаза и собирались к завтраку, Толя успевал нарисовать несколько картин и написать несколько стихотворений. И так каждый день «олимпийского» лета. Несколько раз я ходила с Анатолием по грибы. Относился он к этим походам очень серьезно. Готовился накануне. Настойчиво напоминал мне о том, что гриб надо срезать ножом, дабы не повредить грибницу, класть в корзину, перекрывая папоротником… Он не наставлял – он мечтал о завтрашнем походе, проигрывал его заранее. В лес входил молча, торжественно, как будто являлся на большой и важный праздник. Вглядывался и стремительно шел, словно направление поиска было ему хорошо известно. Вдруг останавливался. И пристально смотрел – это был взгляд полководца. Я ни при каких иных обстоятельствах жизни не видела у него таких глаз. Это были глаза Лешего… или Пана… А дальше происходило чудо. Он в течение очень короткого отрезка времени набирал полную корзину грибов. Я же успевала лишь заполнить дно своей маленькой корзинки. – Они мне открываются, показываются, а тебе, видать, нет, – говорил он, успокаивая меня. Лес – единственное место, где он чувствовал себя Хозяином. Знал все деревья, травы, цветы; птиц – по голосам и стуку. И еще, и еще раз приходилось удивляться этому органичному, тихому знанию им природы, ее законов, знанию, которое он никогда не афишировал, не навязывал людям. Вообще, все формы самоутверждения, столь распространенные в нашем грешном мире, были чужды этому удивительному человеку с душой нежной и страстной. Следующий серьезный ритуал – чистка и приготовление грибов. Толя любил это делать лично, никому не передоверяя и, надо сказать, владел этим искусством отменно. Готовил он очень старательно, дело это уважал, так как за ним следовало застолье. И я, твердо настроенная на волну светлых воспоминаний, отбрасываю все то, что по прямой ассоциации возникает у многих его почитателей и недругов при словах «Толя» и «застолье», и вспоминаю те застолья, где Зверев бывал блестящим рассказчиком, актером, знатоком искусства, остроумнейшим, парадоксально мыслящим человеком, гениальная интуиция которого компенсировала подчас недостаток образования. Взаимоотношения с социумом складывались у Анатолия Тимофеевича всегда конфликтно. Он не понимал дурацких законов, зачастую нелепых обязательных схем, в которые надлежало вписываться. – Представляешь, старуха, утром беру билет в кинотеатр «Мир». Захожу. Иду в буфет, покупаю пиво. Стою, пью. Мне говорят: сеанс начинается. А я хочу пить пиво. Я же купил билет! Почему я не могу здесь тихо попить пиво?! А они милицию вызвали… Он искренне не понимал… С конца пятидесятых годов мир знал художника Зверева, и слава его с годами росла. Его картины выставлялись в галереях крупнейших столиц мира. Сам же Анатолий Тимофеевич по грустной иронии судьбы мир знал очень мало. Выезжал из Москвы редко, разве что в Тарусу или близкое Подмосковье на дачи. И поэтому полученное им от художников приглашение приехать в Ленинград явилось для него событием из ряда вон выходящим, к которому он психологически готовился, сочинял сценарий будущего великого путешествия. – Представляешь, детуля, я вхожу в вагон! Поезд трогается. Я сразу пойду в ресторан. Возьму пиво. Буду сидеть и смотреть в окно… Слушай, а где в это время будет мое пальто? В ресторан‑то в пальто не пустят. – В купе, Толечка. – А вдруг сопрут? Как я зимой без пальто? – Кому нужно твое задрипанное пальто! – Детуля, ты людей не знаешь… Это надо как следует обдумать… Сижу в ресторане, пью пиво, смотрю в окно… – Толечка, ресторан на ночь закрывают. – Тогда буду в коридоре стоять. И смотреть в окно. – Так темно же. Ничего не видно. – Не волнуйся, детуля. Что мне надо – все увижу!.. Теперь я сама просыпаюсь на рассвете. Перед моими глазами портрет Патрика с цветком шиповника, лошадки, пасущиеся на лугу, мой портрет… В доме тихо. Спать не хочется. Вот бы сейчас Толя позвонил.» |
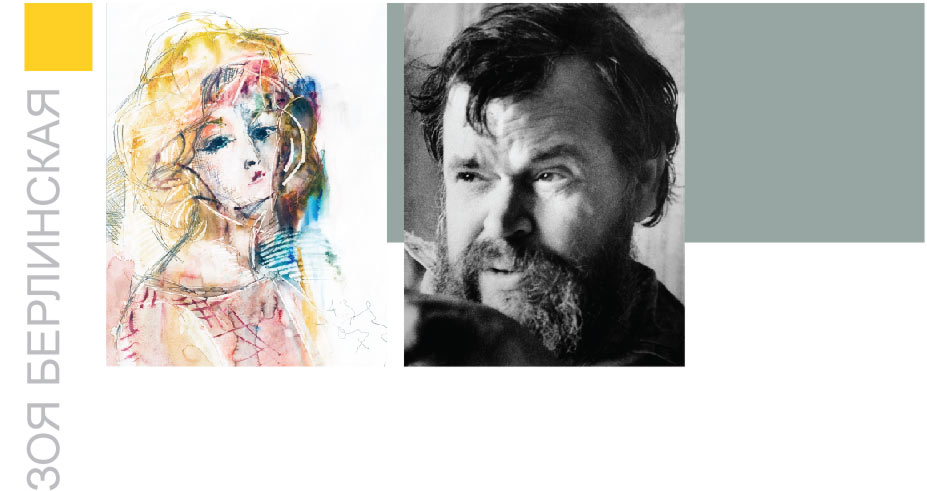
|
|
ЗОЯ БЕРЛИНСКАЯ
юрист, супруга выдающегося российского виолончелиста, педагога,общественного деятеля Валентина Берлинского. О супруше музыкант отзывается как о главном своем соратнике и помощнике (широко известна фраза В. Берлинского: «Жена квартетиста — все равно что жена декабриста»). далее |
|
Юрист, супруга выдающегося российского виолончелиста, педагога, общественного деятеля Валентина Берлинского. О супруше музыкант отзывается как о главном своем соратнике и помощнике (широко известна фраза В. Берлинского: ««Жена квартетиста — все равно что жена декабриста»).
"Осенью, где-то в середине семидесятых, Толечка получил от кого-то крупную сумму за портретирование. И оставил мне на хранение, чтобы не отняли "реалисты". Звонил почти каждый день и говорил: - Мне надо пятьдесят. В другой раз: - Мне надо сто. Заходил к нам домой, или я выносила ему деньги. А тут назначил встречу у центрального телеграфа и попросил взять сумму по-крупнее. Пришел Зверев в треухе, в диких башмаках, в многослойных одежках. Сейчас бы сразу сказали о таком - бомж. А в те годы могли назвать вахлаком, а могли и замести, как психа. Но рядом была я - дамочка вполне благопристойная, а, выйдя из подземного перехода, к нам спешила маленькая старушка в шапочке-пирожке из пушистого меха, аккуратненькая и несомненно принадлежащая к интеллигентскому сословию. Толечка был смущен и взволнован свиданием с Оксаной Михайловной Асеевой. Цель нашей встречи и похода в близлежащий "Военторг" была одеть Анатоля. - Сейчас купим кепи, джемпер, - строила планы Оксана Михайловна. В "Военторге" за нашей живописной компанией наблюдали потрясенные продавщицы и покупатели. Руководила примеркой и выбирала гардероб Оксана Михайловна. Толечка покорно примерял, повинуясь ее воле и доверяя ее вкусу. - Нет, Анатоль, это не подходит, - командовала она. - А вот это вам к лицу. И село по фигуре. Купили очень приличные свитера, рубашки, куртку, кепку и, нагруженные пакетами вышли на улицу, сразу поймали такси. - В Гиблово! - скомандовал Толечка. Он решил доставить свой новый шикарный гардероб в родовое гнездо, в котором бывал очень редко. Я села на переднее сидение, а Оксана Михайловна и Толечка устроились сзади. Я болтала о чем-то малозначимом и вдруг обернулась. Зверев держал свою руку на руке Оксаны Михайловны. Они сидели, прижавшись друг к другу. Я давно знала Толечку, но никогда не видела его таким благообразным, умиротворенным и счастливым. Оксана Михайловна смутилась. Я почувствовала неловкость и стала смотреть вперед и болтать с водителем. А сама думала о том, что сейчас у меня за спиной сидят два абсолютно счастливых человека. Так и доехали до Гиблова в этой упоительной атмосфере хрупкого счастья. С тех пор прошло очень много лет. Но людей излучавших такую взаимную любовь и счастье, мне больше не довелось увидеть своими глазами". "Валя привез мне с гастролей красивые кожаные перчатки. Они лежали на подзеркальном столике в коридоре. Толечка уперся в них взглядом - Старуха, тебе не нужны эти перчатки, - строго сказал он. - Они тебе не подходят. Я знаю, кому они подойдут! - Кому же? - поинтересовалась я. - Я возьму их для Оксаны Михайловны, - попросил он. И. конечно, я не смогла отказать Толечке. И он поторопился к своей Старухе с подарком". (записала Елена Лобачевская) |

|
|
Конечно, работы Анатолия Зверева, его автопортреты, я видела и знала давно. Но одно дело – знать, а другое – попытаться осмыслить и обобщить увиденное.
И я не случайно выбрала в качестве эпиграфа строчки самого Анатолия Зверева. В них сконцентрировано его отношение к этой теме, к тому, о чем я пытаюсь рассказать. Позднее я расшифрую образы этого стиха – а это, несомненно, стих, высокая поэзия. Для начала нужно сказать, что автопортрет никогда не бывает просто портретом. Лишь только автопортрет возникает как жанр, он становится совершенно отдельным, самоценным явлением. В нем выражается то, как художник сам себя видит и понимает. Автопортрет – это всегда автобиография. В истории искусства есть одна грандиозная автобиография-исповедь – «Менины» Веласкеса. Он, Художник, занимает главную позицию и в мире Веласкеса, и на огромном холсте, а король – лишь тень, едва различимое отражение в зеркале. В этом вся суть: преобразователь жизни он, а король будет именно там, где Он захочет. В жизни король над ним, а в «Менинах», в артистической автобиографии, монарх – лишь тень в зазеркалье. Иными словами, автопортрет – всегда очень мощное высказывание о себе и представление о себе в мире. Чем значительней художник, тем сильнее у него желание об этой теме заявить. Автопортрет как предстояние перед самим собой, как акт самопознания и самоанализа. И в этом жанре, в само-изучении, у каждого художника, есть, по меньшей мере, два пути. Первый – «Я в Образе». Взять, например, Оноре Домье. Он, как считается, не оставил автопортретов в привычном для нас представлении. Однако главные его автопортреты: он - в образе Дон Кихота. И какими бы ни были его политические взгляды (левыми, коммунистическими), его взгляд на самого себя – это Дон Кихот. Другой путь, по которому идут большинство художников, Зверев метафорически обозначил одной емкой фразой – «а помнишь ли ты себя с пеленок». Лучший тому пример – целая автобиографическая повесть, грандиозное исследование себя - автопортреты Дюрера. Первый свой автопортрет он сделал карандашом в раннем детстве: ребенок указывает на себя, а под портретом надпись «Это я, Альбрехт Дюрер. Мне 9 лет». Он, ребенок, но уже Художник, выделившийся из системы, из цехового сознания: здесь важно «Я», его отдельность, выделенность. Если же собрать все автопортреты Дюрера, окажется, что ни один биограф не рассказал о нем того, чего рассказал сам художник. Вплоть до последнего автопортрета, написанного словно фантомно, там, где он указывает на поджелудочную железу (причину болезни и смерти). «А помнишь ли ты себя с пеленок…». И тут же у Зверева – «тореадор»! Тема тореадора – это тема точности, прицельности. Это тема единоборства, проникновения в самую суть вещей и явлений, состояние между жизнью и смертью. Всегда на грани. Все это есть у великих мастеров самопознания, саморазглядывания, самоуничтожения… И у Зверева это есть как ни у кого другого… Разглядывания самого себя не в акте восхищения, а как жестокое самораскрытие. У классических мастеров такой жестокости по отношению к самому себе еще нет. Это уже черта Нового времени. Сразу приходят на память автопортреты Ван Гога. Их, к слову сказать, нередко сравнивают со зверевскими. Однако я бы хотела сделать принципиальное замечание. Действительно, Ван Гог, как и Зверев, очень много себя писал. Но он создавал автопортреты исключительно в экстремальных ситуациях. В тот момент, когда сознание его покидало, на грани, в момент почти погруженности в небытие. В его автопортретах эта грань боли очень явственна. Зверев же – при всем драматизме его работ - постоянно возвращается к жизни и пишет о жизни. Поэтому их автопортреты по философскому подходу я бы сравнивать не стала. Но кто, действительно, ближе Звереву и по сути, и по формальным чертам, с кем у него «на воздушных путях голосов переклички», так это с Рембрандтом. Во-первых, Рембрандт писал себя столько, что просто невозможно точно подсчитать число его автопортретов. Во-вторых, это многообразие решений – и в образе, и «в зеркале», то есть в непосредственной данности. Пишет ли Рембрандт себя с Саскией на коленях, или передает себя зеркально (скорее даже в за-зеркалье) – это всегда мощное высказывание о «Я» в мире людей и вещей. И Рембрандт, и Зверев имеют еще одно общее: в какой бы технике ни создавался автопортрет, какой бы ракурс ни избирался, личность там не предстает «законченной», «окончательной» (как у Дюрера, например). Напротив, это «Я» в данный момент. Каждый раз это воспоминание о себе («а помнишь ли ты себя?») – вспоминание о прошлом и будущем. И Рембрандт, и Зверев были людьми таинственными. Не в том смысле, что они имели какое-то скрываемое от других знание. Речь идет о таинственности судьбы - они сами не знали, кто они и откуда, но с рождения несли данный им талант. Рембрандт, сын мельника, был в своей семье и окружении как подкинутое в гнездо крапленое лицо: откуда возник такой человек? У него не было «детской», которой кичатся лже-аристократы. Но они, Рембрандт и Зверев, позволяли себе жесты абсолютной обособленности и свободы. Надо было быть таким таинственно утонченным, таинственно аристократическим, чтобы полюбить такую женщину как Оксана Асеева. Кто может знать, «кому Бог дунул в макушку»? Итак, в обоих художниках была непостижимая для обывателей острота зрения и проникновения, а главное возможность все это воплотить. В Звереве, помимо всего прочего, было нечто, что противоречило его внешнему облику и манере поведения. Это особенно сильно чувствуется в его автопортретах. Неожиданность. Ситуация «вдруг». Она – эта неожиданность – имеет в основе независимость и свободу. Не те свободы, которые пытаются добиться манифестами или на площадях. Свобода была дана ему как гению. Он знал и видел на метафизическом уровне сколь человек неравен самому себе – как много в нем лиц и обличий. У Зверева мы наблюдаем процесс непрерывного самопознания и видения себя во всех ипостасях – не только себя, но и всего человечества отображенного в нем. В 25 лет он пишет себя стариком, потом щеголем, затем несчастным… Он пишет тени, отброшенные на лист бумаги. И самые выразительные вещи созданы тушью, ведь именно в ней лучше всего передаются зверевские мимолетности, своего рода «деепричастности». «Прищурив глаза», «куря сигарету», «оборачиваясь налево» - так можно обозначить действия многих его автопортретов. Это продленность движения, создающая фантастическую динамику и неповторимость впечатления. Только по одним автопортретам Анатолия Зверева можно сделать огромное антологическое исследование проблем стиля и художественной цельности. Метафизика – таинственная вещь, мы не знаем, «где сочиняют сны». Но Зверев именно там сочинен. Вновь приходится говорить о силе личности, не зависящей от ее происхождения и окружения. Я встречала Зверева в собраниях очень умных, сильных и амбициозных людей. Но когда приходил Толя Зверев, все меркло на его фоне. В нем была какая-то дополнительная энергия – выражалась она в глазах, в их особом блеске, в рентгеновских лучах, испускаемых взглядом. В его портретах маски нет – в них он воплощает себя. А в жизни была маска – он был человек карнавал. Он любил «замесить» карнавал. Гений с магическим кристаллом внутри. Магический кристалл, как известно, это многоугольник, где ни один угол не равен другому. И зверевские рисунки рождаются с магическим кристаллом, который каждый раз поворачивается новой гранью. Вместе с автопортретами Зверева вы сами каждый раз оказываетесь в другом, новом, пространстве. |

|
|
Вернемся, впрочем, к нашему эпиграфу. В стихе он вдруг говорит «соленый помидор». Закуска к водке! Совсем не просто так
пресловутый «помидор» тут возникает – это символ иронии, снижения пафоса. В данном случае, кстати, он близок Высоцкому.
Не в том плане, что Владимир Семенович много говорил о себе. Но в каждой песне – это именно он, он «в образе», в духовно-творческом метафизическом опыте. И так же как Высоцкий носил маску маргиналу, будучи совсем другим человеком. Главная задача автопортрета – демонстрация многоликости самого себя в себе. У Куприна есть гениальный рассказ о наставнице закрытого женского пансиона, невероятно строгих нравов, которую все боялись. Но периодически она отпрашивалась у начальства, выходила на улицу и превращалась в сексуально распущенное чудовище. В одном человеке, говорит Куприн, живет пятеро или больше человек. Звереву в его автопортретах ироническое самопознание удавалось невероятно. У Рембрандта, человека XVII века, такого иронического отношения к себе не было. Зверева отличает необыкновенно глубокая самоирония. Есть художники, с которыми я бы не хотела Зверева сравнивать напрямую. Но упомянуть их стоит. Два гениальных художника в ХХ веке изображали себя непрерывно. Речь о Сальвадоре Дали и Пабло Пикассо. Первый, на мой взгляд – менее всего подходит для понимания природы зверевского автопортрета. У Дали нет тонкой иронии и самоиронии, у него всегда эпатажность. Если можно так выразиться, специальное вранье – отсюда же происходит «театр Сальвадора Дали». У Зверева нет театра: в своих автопортретах он всегда таков, каков есть: романтический и нежный, грубый и гонимый, напуганный и страшный, в сельской шапке или в шляпе денди. В отличие от Дали в само-изображении (и само-изобретении) для Анатолия Зверева менее всего важна техника. Для него важен язык, выразительность этого языка. Технику он воспринимает как привходящее средство. В этом смысле — по глубине самовыражения — Звереву намного ближе Пикассо. Он тоже неистощим в само-истреблении, в само-насмешливости, в само-любовании. В пикассовских автопортретах заложена вся партитура человеческих чувств, направленных изнутри на самого себя. У него есть гениальная серия «Художник и его модель» - там развивается невероятная взаимосвязь модели и художника. И тут же испанский художник примеряет на себя мифологические образы — фавн, дикий бык... У Зверева нет такой постоянной мифологической метафоры как у Пикассо («Я – бык»). Он все таки родился и вырос в другой, не средиземноморской, культуре. Но своя мифология появилась и у него - сумасшедший, пьяница, изгой, старец или юноша, или пристальный интеллигент. Многоликость душевной мифологии, своего рода духовный рельеф. Анатолий Зверев всегда эссеистичен — это, как говорится, на поверхности. Но он еще и спонтанен, надменно пренебрежителен к технике. Как ни один художник он завязывает изображаемое с языком изображения (силой мазка или силой руки), а не его носителями (холст, краска и т.д.). Эта «инфекция» подцеплена, конечно, от футуристов. Зверев ведь большой хитрец. Он словно подмигивает: «Мы можем сделать что угодно из чего угодно: из опилок, обоев, сигарет. Средства работают на нас». У Пикассо такой удали не было. Это было хитрым и изысканным щегольством. В этой связи у Зверева нет ни одного автопортрета, написанного не только в одном состоянии, с одной точки зрения, но и по технике. К слову, о технике и материалах Анатолия Зверева могла бы быть огромная и необыкновенно интересная работа. Ведь создание автопортрета у него – это тоже как перфоманс. Огромный азарт витальной карнавальной стихии. Как у любого большого артиста Звереву была присуща карнавальность жизни – вне ее у других художников получается скука, которую мы, увы, непрестанно наблюдаем. Для понимания сути и смысла автопортретов Анатолия Зверева, на мой взгляд, очень важно сопоставить их с его же портретами друзей и соратников. То есть с галереей «близкого круга». В данном случае нам придется говорить о таких категориях как «Я» и «не-Я». Так вот, у художников-классиков «Я» и «не-Я» почти не различаются. У Зверева отношение к модели имеет хайдегеровский оттенок. Есть отдельное, бесконечно изменяющееся «Я» и есть «не-Я». Возможности художественного видения, свойственные людям XIX века, кардинально изменилось в ХХ-м. Это выразилось, помимо всего прочего, в отношении к себе, к «Я», крайне радикальному, негативному. «Я» становится «не Я» (как у Маяковского, уже не «Я» – а «Гражданин Советского Союза»). Эта разница – масковая, карнавальная. «Говорю от имени народа!» А кто тебя, собственно, уполномочивал говорить от народного имени? Снятие личности - именно черта людей нового времени. У Зверева отношение к себе также остро современное. К себе он относится на уровне потока сознания – он себя рассказывает. Однако все меняется, когда перед ним возникает «не-Я». И тут художник превращается в наблюдателя. Он наблюдает себя в другом. Он представляет «другого» от своего имени – знакомьтесь, это «Я» вам его представляю. Если «Я» Зверева – это поток времени и наблюдения себя в этом потоке, то с столкновении с «не-Я» у него две прямо противоположные позиции. Одна лучше всего иллюстрируется тем, как он изображает детей. Он словно разрезает время и видит конечный результат. Девочка – уже не девочка, на ней отпечаток всей прожитой жизни. Это уже была жена и мать солдата, каждый день делила копейку пополам, жила в коммунальной кухне и судилась с соседями. А ведь написано: «потрет девочки»! То есть, с одной стороны, происходит наращивание времени. А с другой (вот вам вторая позиция) - его снятие. Особенно когда он пишет Оксану Асееву как «гимназистку». Ничего не поделать - метафизика восприятия. Они (и дети, и Асеева) были такие, какими он их видел. И здесь уже не действуют категории «нравится-не нравится». Есть приходится лишь воспринимать художественную пронзительность зверевского времени. Его круг, круг «его людей» изображается вердиктно. Каждый портрет - вердикт. Эти люди теперь навсегда такие, какими их выхватил из потока времен Зверев. За каждым из них теперь устанавливалась некая репутация. Например, Дмитрий Краснопевцев с его бледностью, прозрачностью, затаенностью, утонченностью, интровертностью. Это все и написано. Сам себя Краснопевцев писал романтиком – у Зверев он шире, интересней. Портрет Пальмина – это изумление. Изумление перед художниками, преклонение перед ними, распахнутость взгляда перед искусством. Это отпечаток сути личности, сути «не-Я». Слово отпечаток здесь очень существенно. Вот перед нами портрет Георгия Костаки. Это был плотный, холеный, хорошо одетый и хорошо пахнущий, вельможный и приятный человек. Вполне себе матерый. Но Зверев изобразил его юным греком. Он видел сквозь его оболочку. Все портреты Анатолия Зверева движутся к сущности. Для него это движение становится возможным тогда, когда сама личность наделена способностью к преображению души. В этом смысле зверевские портреты художников кардинально отличаются от детских типажей (эдаких матрешек, рождавшихся стариками). Последнее, о чем хочется сказать, об иероглифичности автопортретов Анатолия Зверева. И вновь возвращаюсь к понятию портрета как отпечатка души, как отпечаток образа. Здесь активно действует принцип минималистичности и экономности средств в нахождении яркой формулы выразительности. Он подключает наше воображение – что бы он ни делал, он приглашает в любом случае в собеседники. Автопортреты Зверева можно назвать диалогическими – вы должны отвечать ему, додумывать. Наиболее удачные автопортреты несут в себе этот вызов. Вы вынуждены на него отвечать. Думать и о себе, и о нем. |
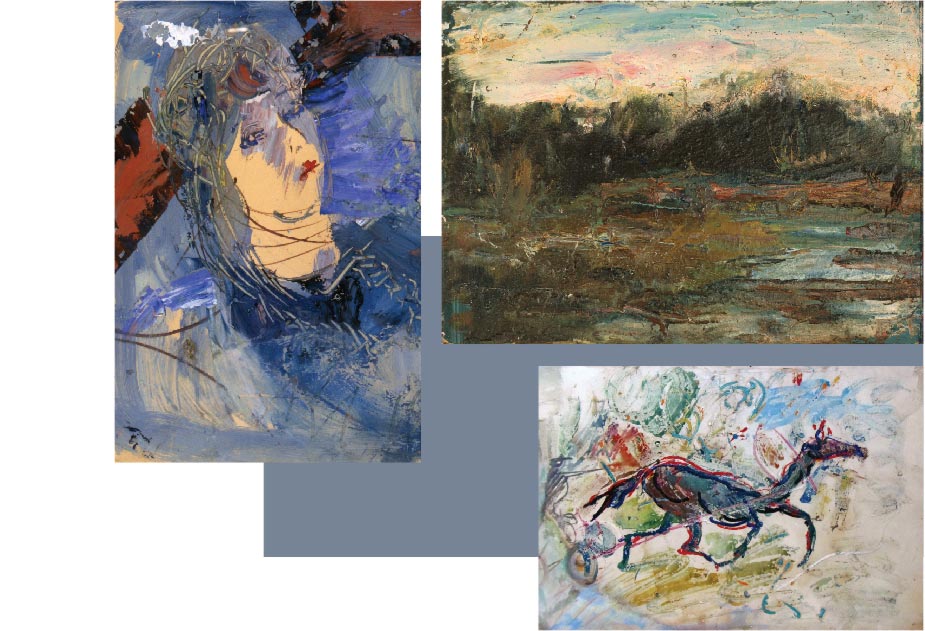
|

|
- Многие считают Зверева гениальным художником, и Вы соглашаетесь с этим мнением. Как Вы думаете, в чем проявляется его гениальность? Свящ. Георгий Кочетков: Он - человек, о котором верно было сказано: «Если есть в стране Зверев, то значит, эта страна жива». По отношению к советскому периоду вопрос, жила ли страна хоть как-то или совсем была мертва, всегда был очень спорным. Так вот: если были такие люди, как Зверев - в живописи, в музыке - Шнитке, и духовно-словесной культуре - Аверинцев, то, значит, страна была жива. Для меня это очень важно, потому что гениальность - вещь особая. Гениальность - это не просто некая самостоятельность, не просто способность повести культуру и людей новыми путями. Это всегда та степень творчества, когда вся человеческая талантливость ставится на службу одному таланту, который выше и больше самого художника, может быть, даже не вполне понимающего или оценивающего этот талант. И очень часто бывает - то, что ценили при жизни художника или какого-то другого гения, потом оказывалось не самым главным в его творчестве, в его наследии; а то, что ценили меньше, вдруг выходило на первое место. Достаточно вспомнить довольно поздно признанного Иоганна Себастьяна Баха. И не только его. Даже Рембрандт был далеко не в фаворе, я не говорю про Яна Вермеера Дельфтского, или в музыке - Антонио Вивальди. Это всё художники или музыканты, а можно вспомнить и поэтов, и архитекторов, и деятелей науки, особенно гуманитарной, писателей, которых при жизни или вообще не ценили, или ценили не совсем за то, за что их ценим мы. Такой великий талант, являющий собой образ великого сокровища, великой жемчужины Царства Небесного, действительно дается редко. Это как алмаз или корень женьшеня, обладающий особыми, уникальными свойствами. Скажем, почему бы корню женьшеня не расти как чертополоху? Почему алмазов нет, а простого камня, гранита, много? Потому я и ценю Зверева, что в нем очевидно есть этот уникальный дар. Хотя его и обожали люди приближенные, но его почти никто не знал. Он сам себя ценил высоко, и он пытался размышлять - о жизни, о судьбе, о себе, о прошлом, о настоящем, о будущем, пытался оценивать какие-то крупные события, и при этом оставаться на твердой почве, не терять трезвенности. В этом смысле он действительно интересен. Его нельзя назвать художником-самоучкой. Пытались называть его так, и он действительно не имел какого-то высокого и целостного художественного образования, но все же язык не поворачивается назвать его самоучкой, хотя в каких-то отдельных вещах видно, что ему где-то не хватает именно художественной выучки. Однако, в конце концов, у многих есть эта выучка, но таких проблесков не то что бы гениальности, а даже таланта - нет. - Мне показалось, он очень уверен в своем даре, и поэтому так точно подступает к материалу. О. Георгий: Пророки и гении всегда знают о своем даре (другой вопрос - что они с ним делают; в их власти или погубить этот дар, или раскрыть и усвоить, и принести соответствующий плод). Нельзя быть пророком, не зная о том, что ты пророк! Нельзя быть гениальным художником, или писателем, или музыкантом, не зная, что ты - творец. Просто нельзя, какого бы ты ни был темперамента, какой бы ты ни был культуры, возраста, пола, и т.д. Это очень важно. Почему таких людей всегда подозревают в гордости? Почему считается, что лучше быть «простым святым», как бы убрав ради общего чина и образа святости все свои отличительные свойства, которые к тому же очень часто не вписываются в общепризнанные каноны поведения, отношений, взглядов и т.д.? Потому что все это людей шокирует - они боятся открытого пространства жизни, их больше привлекает тихое болотце, тихая заводь. Не случайно даже церковь люди умудрились за столетия сделать тихим омутом. - Наверное, в этом драма или даже трагедия пророчества. Пророк знает о своем даре - но оказывается, что мир не может его принять. О. Георгий: Такие люди - гении и пророки, великие творцы - не очень оборачиваются на мир. Они согласны исполнять свое предназначение в любых условиях - вот это потрясающе! - и в богатстве, и в бедности, и даже если у них есть какие-то врожденные или благоприобретенные вывихи... Вспомните знаменитую фразу о Достоевском - что он гений не благодаря, а вопреки своей психической болезни, своей эпилепсии - это же обо многом говорит. То же самое можно сказать про Зверева. Он великий художник вопреки своему алкоголизму, а не благодаря ему. То же можно сказать и про других. Микеланджело или Леонардо великие гении вопреки своему гомосексуализму, вопреки каким-то другим вещам, а не благодаря им, как сейчас пытаются это иногда представить... - ...оправдывая всякие страсти. О. Георгий: Да, многие сегодня уверяют: хочешь быть гением - будь гомосексуалистом, будь пьяницей, будь наркоманом, будь разрушителем всего. И люди в богемной среде очень часто на это ловятся. Там считают, что все эти искажения совершенно нормальны, иначе ты не станешь великим художником, талантливым артистом, писателем. Мне не однажды приходилось беседовать на эти темы с теми, кто привык находиться в этом кругу (условно назовем его богемным), поэтому я это точно знаю. - Можно ли сказать о Звереве, что он принес с собой какое-то откровение, т.е. в чем-то был первооткрывателем? О. Георгий: Конечно. Если бы этого не было, то не было бы и гениальности. Гениальность обязательно включает в себя это качество - быть первооткрывателем, открывать что-то совершенно новое, миру еще не известное. Если угодно - даже творить новое: новый взгляд на вещи, новые звуки, новые гармонии - то, чего, может быть, в природе не было. Это и есть творчество. - Можно ли как-то прочитать, в чем это откровение? О. Георгий: Я считаю, что его откровение в особом экзистенциальном взгляде на человека. Он по-новому увидел человека в условиях, когда человеческое лицо было никому не интересно - более того, опасно. Быть носителем человеческого лица в советском обществе было опасно для жизни. Я помню, один старый кагэбэшник, который работал в органах с 30-х годов (в те времена он был молодым человеком), мне как-то говорил: «Вот, Георгий, таких как ты мы брали на улице по одному виду». Потому что было видно, что идет человек со своим лицом, каким бы оно ни было... - Это страшно. О. Георгий: Но так жила наша страна! Именно в этих нечеловеческих условиях Зверев смог найти человека, найти в нем человеческую основу, которая, исходя из общих соображений христианской антропологии, всегда, конечно же, есть, - найти и выразить, и тем самым как бы сотворить, поднять, восстановить падший образ. Это - богочеловеческое действие, и поэтому - гениальность. Именно благодаря этому можно сказать, что если есть такой художник, значит, есть живая страна, живой народ. То же самое в музыке, литературе и гуманитарной сфере - филологии, философии, богословии. Это самое трудное, почти невозможное в наше время. Почему особенно важен Зверев? Были творцы, которые еще сохранились у нас «по наследству» с дореволюционных или с первых послереволюционных времен. Но они очень быстро сходили на нет: их выгоняли, убивали, они или ломались полностью, или просто рано умирали. К семидесятым годам почти никого уже не осталось. Та же Ахматова в какой-то степени современник Зверева, но она целиком принадлежит старому миру, она никогда не была советской - никогда! А Зверев - он из советской рабочей среды, он весь был в этом, и он это превзошел. Это большая разница. Ахматова смогла сохранить себя вопреки всему. Она великий человек. Но она все-таки не гений. А Зверев - гений.  - Есть ли что-то сейчас в нашем искусстве, что, можно сказать, продолжает это направление; было ли где-то это откровение Зверева воспринято? О. Георгий: Думаю, оно сейчас только открывается. Конечно, были ценители его творчества; невозможно было знать его и не ценить. О нем знал не только Георгий Костаки, но и другие. Но даже когда они говорили самые превыспренние слова, как Фальк, скажем, - все равно они его недооценивали и не очень понимали. Только сейчас приходит время Зверева. Не случайно идут бесконечной чередой его выставки в Москве. Но официальных выставок среди них нет. «Дом Нащокина» - это частная галерея. «Новый Манеж» выставляет свои вещи на продажу. И даже если висят две замечательные вещи Зверева на Крымском валу, в новой Третьяковке, то всё равно только две (что просто позор), а кроме того, они висят так, что можно легко пройти и не заметить их. И это понятно: там Плавинский висит рядом. Это замечательный художник, я ничего против него не имею; он не гений, скажем мягко. И там он более заметен, чем Зверев. Я специально искал Зверева и потому нашел эти две работы, которые повесили почти в проходе. А то можно, переходя из зала в зал, их не заметить. Удивительно, насколько распространено в официальных и государственных структурах нечувствие к гениальности! Ведь по-настоящему талантливых художников, которые вполне могут тягаться с художниками мировой известности, слава Богу, в нашей стране достаточно, но большинство художников мировой известности, уж коли мы сегодня о гениальности говорим, - они не гении. Так, например, Рублев был гений, а замечательные, удивительные иконописцы его времени - не гении. Всегда есть какая-то невидимая грань, до которой они только доходят, но не переходят ее самостоятельно, не вырываются за нее - они не могут открыть чего-то совершенно нового, им не хватает духа, не хватает свободы, смелости, дерзновения, прорыва, а может быть еще и смирения, без которого гений жить не может. У гения всегда есть и дерзновение, и смирение. Дерзновение часто путают с дерзостью, с гордостью, а смирение - со следствиями страстей, подавленностью или какими-то другими вещами, которые тоже свойственны гениям в некоторые моменты их жизни. На самом же деле смирение гения в том, что он готов на всё для реализации своего дара. Он действительно готов от всего отказаться - и от отца, и от матери, и от жены, и от детей, и от имущества, и от своего здоровья, от жизни, от самого себя... И отказываются! Если человек оглядывается на свою семью, на своих родных, близких, если он оглядывается на свою работу, выгоду, общественное признание, понимание, даже на своих друзей - именно оглядывается на них, а не просто опирается в чем-то, - то он уже не может прорваться, это надо очень хорошо понимать. - И это неизбежный путь для гениального человека? О. Георгий: Да, неизбежный. Подобно тому как дар Божий в этом мире не принимается, потому что воспринимается как чужой, точно так же и гениальность. Это вестники с небес, они в этот мир не вмещаются. Это то же, что было с Пушкиным - не случайно его убили в тридцать семь лет... - Т.е. получается, что человек обречен на одиночество? О. Георгий: ...или на смерть. Или на полный кеносис, как Рембрандт, допустим, который пережил своего единственного сына, уж не говоря про свою первую жену - все пережил, все свое благополучие, и умер фактически забытым... Если бы Пушкин выжил, его бы, как мне кажется, ждала бы подобная же участь - его бы забыли. Его уже начали забывать незадолго до смерти, он был далеко не в фокусе общественного внимания. Мы редко об этом думаем. - Наверное, гения очень сложно вынести рядом с собой... О. Георгий: Не то что очень сложно - невозможно!.. Не только из-за неудобства их индивидуальных свойств, но просто потому, что гениальность вызывает зависть, непонимание и отторжение. Ведь и Христа отторгли в конце концов, потому что иудейское общество, даже будучи порабощенным, даже желая освобождения, даже будучи готовым на какой-то свой национальный путь, свой узконациональный подвиг (как мы бы сейчас сказали - «националистический»), - все равно было собой довольно, даже в тех особых условиях, и очень высоко себя ставило. И поэтому им не нужны были вестники с небес, не нужен был никакой Сын Божий. Мессия им на самом деле был не нужен, сколько бы они о Нем ни думали, ни говорили, ни толковали. Это ведь тоже очень важно. Вот почему у Зверева есть сильный христианский момент. Он, очевидно, не был церковным человеком. Ну, может быть, в глубине души был где-то как-то верующим. Но он для нас, церковных людей, куда более интересен, чем многие церковные художники, даже лучшие, такие как Нестеров. Это замечательный художник, но он куда менее интересен, чем художник Зверев. - Получается, что какое-то время проходит, и люди узнают, что рядом с ними был такой человек... Как это происходит? О. Георгий: Светильник нельзя поставить под кровать - он всё равно светит. Просто пока людям это слишком близко, свет слепит им глаза, и они ничего не видят. Но потом проходит время, и они, уже оглядываясь назад, на некотором расстоянии, начинают вдруг что-то различать. Неслучайно нам сейчас бывают немного скучноваты те, кто признавался величайшими гениями своего времени. Мы сейчас не читаем Гегеля, а его считали вершиной философской мысли. Нам бывает скучновато смотреть на Рубенса, хотя он удивительный художник, а уж про Ван Дейка и говорить нечего. У нас в России первый великий художник с проблеском гениальности - Александр Иванов, до него таких не было, исключая древнерусских иконописцев. Были очень талантливые, типа Рокотова, были просто талантливые типа Боровиковского, Левицкого, но гениев не было, Иванов - первый, и то прорвавшийся лишь отчасти - в своих библейских эскизах - к гениальности. Это есть далеко не во всех его картинах - они были в известном смысле станком, который оттачивал его умение, его видение, его глаз; только отдельные этюды - удивительные итальянские пейзажи, его «обнаженные мальчики» и, конечно, ряд больших картин говорит об этом. Но ведь современники его терпеть не могли, и то, что император купил его картину - это чудо из чудес, подобное тому, как Николай II по случайному стечению обстоятельств канонизировал Серафима Саровского. Это уж промысел Божий, скажем так. Это очень важно, потому что русское искусство не осознанно и не оценено. Недавно я задумался: а были ли у нас гении? Не Рублев, не Дионисий, не Феофан Грек, а потом - с XVIII века? И вдруг обнаружил, что это люди, которые составляют удивительную цепочку внутренней и внешней взаимосвязи: Александр Иванов, потом сразу - Врубель, Серов, после них - с проблеском гениальности Петров-Водкин (далеко не во всем, далеко не всегда; он обрел некое новое видение, у него была потенция гениальности, но смог он ее реализовать или нет - это вопрос). Может быть, Корин в своих известных этюдах к «Руси уходящей» (при этом нужно понимать, что и у Корина работы «на заказ», скажем, портрет Жукова получались просто на уровне талантливого художника). Все эти художники находились под прямым воздействием Иванова. Вспомните горизонтальные длинные пейзажи Корина - один к одному ивановские. И вот, после Корина или Петрова-Водкина - сразу Зверев. И все, и больше ничего. Наши гении - это не Малевич, не Кандинский, не Шагал. Они очень талантливы, они в каком-то смысле цивилизационно сыграли огромную роль. Но это уже больше цивилизация, чем культура. И хотя их влияние огромно, их признал весь мир, как сейчас начинают признавать других русских художников того времени, но они не гении. Удивительная череда русских гениальных художников - это цепочка, о которой я уже сказал, зародившаяся в лице Иванова, как кажется, совсем случайно. Современники-итальянцы, в среде которых он работал, на голову ниже его, т.е. он отнюдь не под их влиянием делал свои вещи и не под влиянием других своих современников, которые могли проходить через Италию, будучи французами, немцами и т.д. Для нас очень важно, что становится таким «зерном». С одной стороны, каждый гений - это какое-то явление, т.е. действительно «человек с неба», а с другой стороны, он всегда стоит на какой-то почве, кто-то его оплодотворил здесь - не только «сверху», но и «снизу», от земли. И эта земля не высыхает в таких случаях. Почему мы плохо знаем свою культуру? Потому что мы живем совсем не в этой традиции. Спросите об этих художниках у наших современников - много ли вам скажут по существу, даже если знают их по именам? А если что-то начнут говорить - так это ж,простите, уши вянут. Можно было бы выстроить такую цепочку и в области мысли, и в области литературы, художественной культуры. В литературе первым гением мы по праву считаем Пушкина, а от него пошла череда: он напрямую влиял на Лермонтова, на Гоголя и Достоевского, и т.д. И Пушкина в русской литературе не объехать никак. Если говорить о мыслителях (опять же, обращаясь лишь к эпохе после XVII в.), то начиная с конца это С.С.Аверинцев, перед ним - Н.А. Бердяев, С. Булгаков. А кто перед ними - сказать трудно, не знаю. Соловьев? Нет, не дотягивает. Достоевский? Да, но это скорее литература. Получается, что мы в Новое время начали свою «гениальную» цепочку позже всего здесь. А раньше всего - в литературе, и это очень характерно для России, и очень важно для нас; сначала Пушкин, а потом - А. Иванов, уж не говоря про Бердяева и Булгакова, это сильно потом. С одной стороны, это несколько имен, с другой стороны, это наше приношение всему человечеству. Это то, чего не может быть нигде больше. В истории вообще не так много гениев. Это очень видно, допустим, на примере живописи итальянского Возрождения, или, скажем, французской живописи. Огромное количество художников - можно только удивляться, сколько людей было вовлечено в этот процесс (что только положительно можно оценить), но гениев-то мало. Талантливых художников много, я удивляюсь тому, что мы знаем. Кого мы сейчас ценим из итальянцев? Фра Беато Анжелико де Фьезоле, а потом - Боттичелли, перед этим - Джотто, а потом «великая троица» - Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, скажем, Тициан, вот, кажется, и всё. Может быть, еще Тинторетто, а потом уж за гениями надо плыть в Испанию - вместе с отплывающим из Италии Эль Греко (Доменико Теотокопули). Просто удивительно. А сюда можно было бы еще присоединить цепочку великих мистиков XVI-XVII вв. и т.д. И получается такой узкий круг. - Как будто эстафета передается от культуры к культуре... О. Георгий: Да, и такой процесс есть, безусловно. Я боюсь, что сейчас у нас нет в культуре гениев, ни одного нет, и это печально. Уже Аверинцев очень беспокоился по этому поводу. Однажды он спросил меня: «Как я отвечу, что мне сказать себе самому: при ком я живу?» Человек маркирует свое время, называет эпоху по имени гения. Можно сказать: пушкинская эпоха, эпоха Александра Иванова, эпоха Зверева. Мне было весело, когда я услышал слова Сергея Сергеевича, потому что я-то про себя (я не посмел этого вслух сказать) тут же сказал - я живу в эпоху Аверинцева (я это очень хорошо понимал). Когда я увидел первую репродукцию Зверева (я ничего не знал об этом художнике и никогда его раньше не видел) - я сразу сказал, что он гений. Когда я услышал буквально первые минуты музыки Шнитке, я сразу сказал - «Кто это? Что это за гений, которого я не знаю?» - «Это Шнитке». - «Это что, старый мастер?» И вдруг оказалось, что это наш почти современник. Первый человек, которого я спросил о Шнитке, сказал: «А, я его знаю!» - Как Вы думаете, почему чаще всего люди все-таки не отзываются на пророческий голос художника, музыканта или мыслителя? Возможно ли пробить «систему», которая внутри нас сидит и не дает нам слышать? О. Георгий: Можно только быть настроенным на поиск нового, на поиск этой гениальности. «Се, творю всё новое», - говорит Господь. И мы должны быть на это хотя бы настроены. Сами, к сожалению, не гении, мы все же мгновенно реагируем на явление гения. Я, в частности, так чувствую наше братство. Мы далеко не гении, но в нашей среде гении могут или родиться, или раскрыться. И что-то подобное происходит - когда люди просто талантливые или очень талантливые приходят к нам. Они как бы светятся новым светом. Это я очень ясно видел на примере Сергея Сергеевича - человека действительно с явными признаками гениальности. Я каждый раз чувствую, как меняются люди, когда приходят к нам, просто попадая на живую почву. Наша конференция* это сейчас очень хорошо показала. Почему людям не хочется уходить с нее, даже неверующим? Они чувствуют, что это зона притяжения, что это какой-то путь; они не видят этого ни в обществе, ни где-то еще в церкви, в культуре, но видят это у нас, и это для них абсолютное свидетельство. Поэтому даже если мы только почва или, как сказал бы о. Виталий Боровой, только навоз, всё равно, это стоит того. Потому что на этой почве может что-то вырасти. - И все-таки у большинства людей, у многих из нас это далеко не всегда выходит. Этому можно и нужно учиться? Чтобы узнать гения, нужно ли иметь особое зрение? О. Георгий: Может быть, именно появление гения дарует это особое зрение, которое фокусируется как раз тогда, когда человек смотрит на эти картины, слушает эти звуки, воспринимает эти мысли, читает эти книги. Так что здесь наоборот. Не сначала зрение, а потом - встреча с гением, а сначала встреча с гением, а потом - слышание и т.д. Так же как встреча со Христом: сначала откровение Христа, а потом откровение наших очей и ушей. Почему так мало христиан? Да потому что люди не хотят этого откровения, им нужно от жизни совсем другое. И чтобы увидеть и услышать, нужно, чтобы «открылись их глаза, открылись их уши». Открылось их сердце. Беседовала Анна ЛЕПЕХИНА 22 октября 2007г. • Имеется в виду прошедшая в августе 2007 г. международная конференция Преображенского содружества малых православных братств - «Христианская соборность и общественная солидарность» |
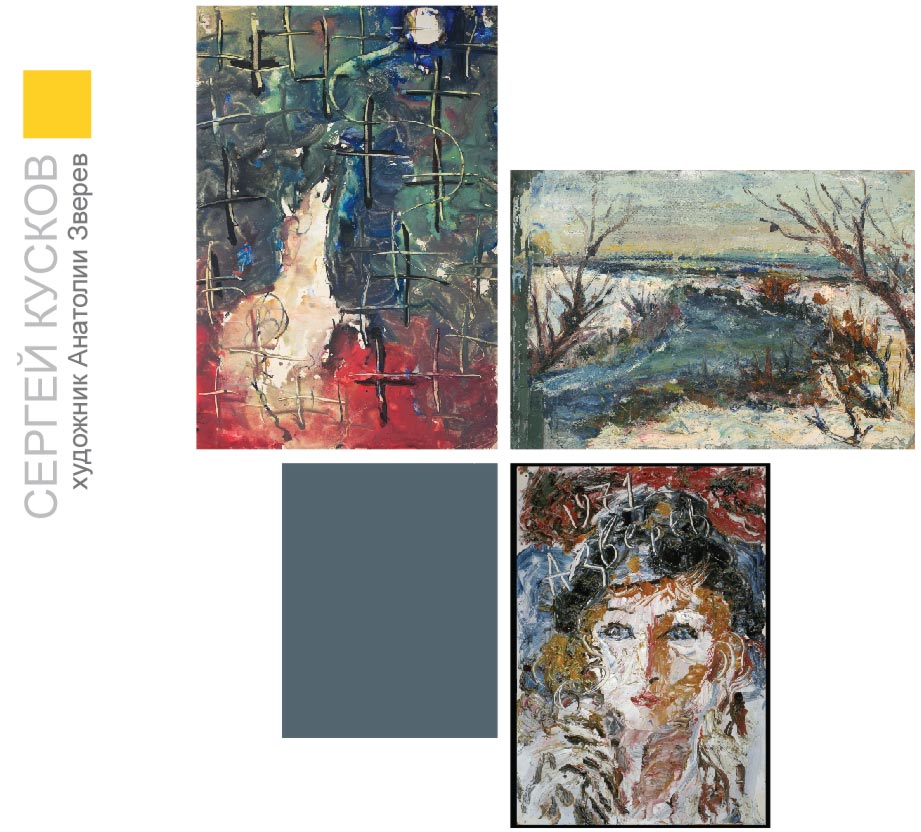
Живописный почерк и образ жизни Анатолия Зверева настолько взаимосвязаны, что с трудом допускают обособленный анализ того или другого. Вместе с тем, начиная искусствоведческий разговор о художнике, необходимо ограничиться лишь одним из возможных "ракурсов" или способов взгляда, поскольку охватить феномен Зверева в границах одной статьи все равно невозможно.
К тому же говорить о Звереве-человеке - наверно, привилегия лично его знавших, да и то лишь тех, с кем он был действительно близок (а таковых не столь уж много! ). Лишь они имеют право на "мемуарное портретирование" этого виртуозного портретиста, взорвавшего традиционное понимание жанров живописи. Конечно, для всех ценителей творчества Зверева весьма желательным было бы появление совокупного свода воспоминаний о нем. Это, в частности, явилось бы альтернативой тем тенденциям "канонизированной" приглаженности, которая уже наметилась в трактовке творчества художника и его судьбы. Ведь всем, кому хотя бы отчасти памятен Зверев, ясно, что его образ при жизни, при всем внешнем неблагополучии, при всех жизненных противоречиях , а подчас и вызывающих проявлениях, был в полную меру личным выбором. Судьба Зверева, с ее диссонансами и неправильностями, неотторжима от неистовой стихии его авторского почерка. И если бы участь этого человека была иной , перед нами предстал бы совсем другой художник. Его путь был во многом вызовом обывательскому "здравому смыслу", он одним из первых предпочел участь "выпавшего" из официальной культуры и превратил это "выпадение" в дерзкую демонстрацию перед преуспевающими , признанными собратьями. Однако личность Зверева - это тема для будущих биографов. Потому, предваряя заведомо условную попытку искусствоведчески "отстраненного" осмысления его наследия, обратимся к собственным, 1985 года, воспоминаниям художника об основных событиях его жизни. "Год моего рождения - 1931, день рождения - 3 ноября. Отец - инвалид гражданской войны, мать-рабочая. Учился очень неровно и имел оценки всякие: по отдельным предметам или "отлично", или контрастное "два". Впоследствии мне удалось каким-то образом окончить семилетку и получить неполное среднее образование, чем и гордился перед самим собой, кажется, больше, нежели перед другими. Детство в основном проходило дико, сумбурно. . . Желаний почти что никаких, кажется, не было. Что же касается искусства рисования, то художником я не мечтал быть. Но очень часто хотелось и мечталось, чтобы троюродный брат рисовал мне всегда коня. Тем неменее рисование мне, по-видимому , удавалось, и впоследствии оно так или иначе прижилось. Когда был в пионерском лагере, не стесняясь могу сказать-создал шедевр на удивление руководителя кружка:"Чайная роза, или шиповник", а когда мне было пять лет (еще до упомянутого случая), изобразил "Уличное движение" по памяти, в избирательном участке, где до войны детям за столиками выдавались цветные карандаши и листы бумаги для рисования. Что касается дальнейшего моего рисования - началась Отечественная война. Всех стали эвакуировать, кого куда. Я вместе с двумя сестрами, отцом и матерью оказался в Тамбовской области. Конечно же, рисования никакого не было, да и не могло быть. . . В Москве, когда мы приехали по окончании войны, люди жили еще по карточкам - "талонам", на пайке, в нужде. А рисование продолжалось из-за случайностей: например, из газеты "Советский спорт"-"Острый момент у ворот московского "Спартака". В моем альбомчике появились рисунки черной тушью , исполненные пером после длительного перерыва в сорок пятом-сорок шестом году. Затем - рисование, живопись, лепка, занятия гравюрой(по линолеуму) , выжигание по дереву в двух парках "Сокольники" и "Измайлово", в их летних городках. Затем - в двух домах пионеров. . . Потом (тоже случайно) учился и закончил ремесленное училище (два года), ну и понемногу посещал иногда кое-какие студии "для взрослых" и даже , быть может, мог бы подзастрять в одном художественном училище, которое находилось на Сретенке (под названием, кажется, "1905 года"). Но в нем я пробыл очень мало. С первого курса был уволен "из-за внешнего вида". Плохое материальное положение решило исход моего пребывания там. Затем работал в парке "Сокольники" ( после окончания художественного ремесленного училища работать пришлось в основном маляром). Всюду мне не везло, но рисование и живопись оставались неизменными занятиями. 
Наиболее интересны те живописцы, которые не утомляют ненужностью своих затей: Ван Гог, Рембрандт, Рубенс, мой учитель Леонардо да Винчи, Веласкес, Гойя, Ван Дейк, Саврасов, Врубель, Рублев, Васильев, Ге, Кипренский, Иванов, Малевич, Кандинский, Боттичелли, Добиньи, Серов, Брюллов, Гоген, Констебль и многие другие, которых либо знаю по фамилии, либо просто не припоминаю.
Что касается сверстников (из так называемых авангардистов), то лучшими являются все, потому что у всех есть будущее, настоящее или хотя бы прошедшее. Желаю счастливого всем художникам плавания и попутного ветра в творчестве! " Итак, ясно, что отношения между прошлым и будущим, между классикой и авангардизмом были осмыслены и пережиты самим художником. Мы же сосредоточим внимание на его новациях в искусстве и постараемся определить, какое место он занимает в истории советского искусства 60-70-х годов. Теперь, с временной дистанции, Зверев видится одним из последних, быть может, потому наиболее ярких воплощений самого "духа живописи" в русской художественной культуре, редкой вспышкой чисто живописного артистизма. Кроме того, он перебросил мост от художественных поисков начала века к нашему времени, воссоединив традиции русского авангарда с новейшими открытиями искусства Запада. Одновременно он представлял собой поток, в котором бурлила яростная энергия живописи, отстаивающая свое право на самоценность. Это был поток неистовый, неуправляемый, перехлестывающий "поверх барьеров"- в том числе и направленческих, дерзко пролагавший себе путь. Приход Зверева был отмечен всплеском безудержного личностного темперамента. Собственно , вся его жизнь прошла под знаком вдохновенного произвола - как в обращении с языком искусства, так и с видимым миром в целом. Талант Зверева развивался стремительно и неукротимо. В его искусстве сплавлялись различные стили и художественные мировоззрения, и в этом ярком сплаве рождался бесконечно изменчивый, но все же всегда узнаваемый "зверевский стиль". Он формировался деформируя собственные поэтические привычки, непредсказуемо меняясь, играя на противоречиях и доверяя только стихийному наитию художественной воли. Наверно, потому Зверев непроизвольно создавал вокруг себя поле вдохновения, и резонанс его опыта ощутим до сих пор. Сам образ жизни сделал его частью истории отечественного авангарда уже на рубеже 50-60-х годов; из просто талантливого живописца Зверев превратился в символ свободного "неофициального" искусства. Независимый, неприкаянный, "гуляющий сам по себе", Зверев был ценим многими (ценим не сентиментально, а как живой факт культуры), но понимаем избранными - теми, кто способен разглядеть исключительное, -то, что как бы среди нас и еще не отчуждено пиететом музейности. При всех житейских неурядицах и отсутствии в характере даже намека на высокопарность, в нем жило нечто титаническое. Борьба с цветом и желание цвета порождали центробежный размах энергии, ощутимой даже в самых камерных жанрах - в портрете, в пейзаже, в анималистике. Зверев был завоевателем и первопроходцем, и одновременно - это был последний представитель "московско-парижской" пластической традиции, ведущей родословную от начала века. Во многом наследуя рафинированный колористический вкус московских "парижан", он сочетал как бы личное вчувствование в это блестяще-меркнущее наследие, с анархией бунтаря , "созидающего" разрушение, стремящегося всегда и все делать иначе, по-своему, и всегда в одиночку. Воспринятую в культуре начала века утонченность цветосветовых вибраций он решительно очистил от всякого налета эстетизма и, напитав лиризмом и экспрессией, подарил лиризму новую жизнь. Следы былой культуры в его искусстве не исчезли бесследно, но каждый отклик традиции, каждый готовый прием напористо вовлечен в новое качество. "Наследник" не оставил камня на камне от устоявшихся живописных структур, преодолевая соблазн постфальковской "цветности", и далеко ушел вперед. Диапазон его приемов был чрезвычайно широк: от фовизма до параллелей абстактному экспрессионизму. Не чуждый контактов с искусством старины и веяний современности, он все же представлял собой небывалый тип русского художника, способного превращать в живопись буквально все, что попадало в поле его внимания. Говоря о его манере письма, необходимо отметить пристальное внимание, с которым художник относился к специфике избранного мотива. Разумеется, конкретный, исходный материал "донельзя" переплавлялся, но тем не менее всегда сохранял свою внутреннюю суть. Пейзаж оставался пейзажем, а портрет- портретом. Модель в этих его портретах никогда не переставала быть личностью, но по артистическому произволу вовлекалась в диалог с портретистами, подчиняясь желанию своевольного маэстро. Из кипы полуслучайных сырых наблюдений - трофеев взгляда - Зверев энергично выжимал желанную суть, то очередное "нечто", которое и побуждало взяться за кисть. Быть может, поэтому так активны его персонажи, будь то люди, растения или животные. В противовес другим художникам он не был домоседом "подполья", сам тип его духовности был окрашен иначе. Зверев всегда был готов к риску бегства от привычного. Все, что обрело устойчивость статики, не соответствовало его темпераменту. Ниспровергатель общепринятых норм и канонов, предельный индивидуалист и "безумец" , он в полном смысле слова освоил наследие авангарда начала ХХ века. Точно, хотя невзначай, откликаясь на актуальные веяния в искусстве, Зверев по-своему "досказал" историю русской модернистской классики и тем самым приоткрыл новые пути художества. 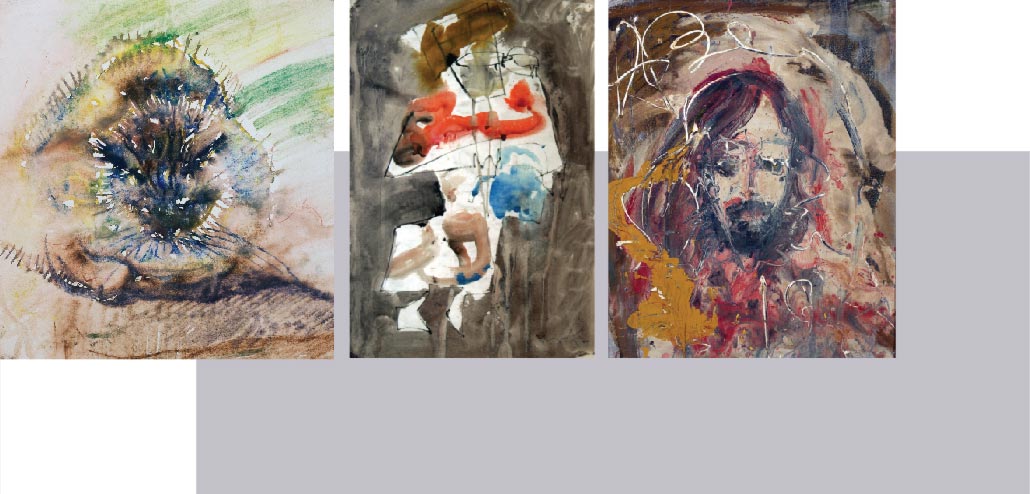
|